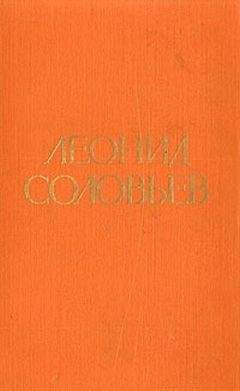Ее похоронили на сельском кладбище с воинскими почестями и салютом из десяти винтовок. На дощечке, что водружена была над ее могилой, майор собственноручно написал:
«Мария Крюкова. Замучена и повешена фашистскими негодяями. Она погибла геройски, как подобает каждому бойцу. Отомстим за нее! Вперед, на врага!»
Возвращаясь с кладбища, майор сказал:
— Часов на двенадцать мы опоздали, а могли бы ее выручить да и фашистов прихватить. А теперь они давно уж переправились…
Навстречу майору быстрым шагом шел его адъютант. Вытянувшись, доложил:
— Товарищ майор, получено сообщение. Вражеские части задержаны на восточном берегу. Переправа захвачена каким-то неизвестным партизанским отрядом.
Никулин захватил переправу с налету перед самым рассветом, когда по мостам уже началось движение отходящих вражеских войск. Пехота, грузовики, повозки, орудия тянулись смутно чернеющей лентой — она выползала из узкой размытой лощины, стиснутой крутыми глинистыми обрывами, спускалась по косогору к реке, над которой плотной пеленой стоял белесый пар, и устремлялась по мосту, наполняя туман слитным гулом, разносящимся далеко по воде.
Никулин ударил яростно, внезапно. Отряд выскочил на врагов с воем, свистом и гоготом, рассек надвое темную ленту войск и остановил ее движение. Фашисты, уже вступившие на мост, спасаясь от хлесткого продольно-сквозного огня пулеметов, вопя и крича, сталкивая друг друга в реку, ринулись на западный берег. Остальные смешались на восточном берегу и темным клубящимся валом хлынули обратно в лощину, сминая задних, внося панику и смятение в их ряды. Бойцы Никулина тем временем быстро, по заранее объявленному порядку (пригодилась книжка Захара Фомичева), занимали траншеи, дзоты, блиндажи, расправляясь с немногочисленной охраной.
Через десять минут отряд закрепился на подступах к переправе. Сам Никулин со взводами Папаши, Жукова и Фомичева занял главную позицию в центре, у выхода из лощины: правый фланг с траншеями, подходящими дугой к обрыву берега, занял Крылов, левый — Харченко.
— Ловко, товарищ командир! — радостным и гордым голосом сказал Фомичев. — Прямо как по нотам разыграли!..
— Обожди радоваться, — хмуро остановил его Папаша, немного суеверный, как и полагается старому моряку. — Не видишь, какая сила против нас.
Они стояли в глубокой траншее, у чернеющего входа в командный пункт, расположенный под землей. Справа и слева слышались сдержанные, серьезные голоса бойцов, иногда короткий металлический лязг затворов. Никулин молчал. Его слегка знобило от нервного напряжения. Самое главное начиналось только теперь. Он понимал, конечно, что, имея двести человек и вступая в бой с тысячами, он не может ставить перед собой иных целей, кроме выигрыша времени. В десятый раз он спрашивал себя — правильно ли рассчитал время, не слишком ли рано ударил, успеют или не успеют фашисты, обескровив и уничтожив отряд, прорваться к месту раньше, чем покажутся наши?..
Перед выступлением он не скрыл от бойцов, что ведет их на отчаянное дело. Сейчас, стоя в траншее, он нисколько не сомневался в своих бойцах, зная, что они не отступят. Другая мысль мучила его: сумеют ли они сохранить себя и не погибнуть преждевременно? При захвате переправы уже убили троих и двух ранили. С тревогой в сердце Никулин отметил, что у него осталось сто восемьдесят пять человек. Каждый был на счету, каждая винтовка значила в этом бою больше, чем целый танк в других условиях.
Вернулся Жуков, которого Никулин послал проверить фланги, доложил, что все в порядке. Между тем фашисты, успевшие перебраться через реку, начали приходить в себя и открыли огонь. Западный берег ожил, заговорил, опоясавшись вспышками, тускло взблескивающими сквозь туман. Над Никулиным тонко и горячо пропела пуля, вторая. Затем прошелестела пулеметная очередь. Никулин нахмурился и сел на сиденье, вырубленное в стене траншеи: он боялся какой-нибудь случайной, шальной пули.
В жизни каждого человека обязательно бывает самый главный, решающий день, как бы подводящий итог всей жизни — всем делам, чувствам, мыслям, — день большого экзамена, великого испытания. Для Никулина такой день настал. О том, уцелеет ли он сам в бою, он вовсе не думал — это был вопрос второстепенный, даже третьестепенный рядом с основной целью: задержать попавшегося в ловушку врага, добить его!
Никулин приказал установить в гнездах еще два спаренных пулемета из своего резерва. Бойцы кинулись выполнять приказание. В это время воздух со звенящим грохотом раскололся, и перед бруствером встал, сверкнув быстрым пламенем, черный косматый столб. За ним, почти без промежутка, встал, с таким же коротким сверканием, и второй косматый столб.
Фашисты, застрявшие на восточном берегу, опомнились и пустили в дело артиллерию.
Бой завязался.
Огонь врагов нарастал. Зная, чем грозит им задержка у переправы, они обрушили на моряков всю силу своих пушек, минометов и пулеметов. Били с западного берега, били из лощины, били с флангов, кругом стоял грохот, рев, подымалось пламя разрывов, слышны были металлический, звенящий треск, визг разлетающихся осколков, свист и шелест пуль.
Пять минут огня… Семь минут… К Никулину уже несколько раз подбегали докладывать об убитых и раненых… Десять минут огня, да такого, что даже, бывалые бойцы, помнившие Одессу и Севастополь, поеживались. Фашисты, видимо, решили покончить дело одним ударом. Огонь усиливался, учащался, слепя и оглушая бойцов, закидывая их комьями подмерзшей земли. Солнце только-только вставало и еще не тронуло тумана, стоявшего над рекой, но здесь, у мостов, он начал расходиться сам, без солнца, от бешеной канонады, сотрясавшей и землю, и воду, и воздух. Он испуганно колыхался, редел и, окрашиваясь палево-алым светом восхода, таял, образуя сквозной пролом в своей молочно-белой стене. В этом ревущем и грохочущем проломе постепенно открывалась река, гладкая по краям, со струистым быстряком посредине, с белыми бурунами у понтонов. Дальше из туманной редеющей кисеи выступала плоская низина западного берега, заросшего мелким кустарником. Справа же и слева туман стоял по-прежнему густо, закрывая видимость.
Двенадцать минут огня… Когда же атака? На пятнадцатой минуте взвились ракеты. По этому сигналу оба берега одновременно прекратили орудийный и пулеметный огонь, рев и грохот затихли, продолжали бить только очереди автоматов, но это воспринималось как тишина. Никулин прильнул грудью к холодному, покрытому инеем откосу траншеи. В низких прозрачных лучах, в трехстах метрах от Никулина, возникла поднявшаяся с земли цепь атакующих. Такие же цепи появились справа и слева. Фашисты пошли в атаку.
— Огонь! — скомандовал Никулин. Он был бледен, сердце его колотилось.
— Огонь! Огонь! — понеслось по траншее.
— Огонь! — отдалось на правом и левом флангах, у Крылова и Харченко.
Навстречу фашистам ударил огонь.
Он был густым и губительно метким — пулеметчики и автоматчики понимали ценность патронов в этом бою. Фашистам не удалось пробежать и сорока метров — огонь придавил их к земле. Понемногу — некоторые пригибаясь, а иные ползком — они начали отходить на исходные рубежи. Фомичев со злым и напряженным лицом редко, расчетливо стрелял из полуавтомата, сердито покашливая, когда пули его настигали цель.
Нет, это была еще не атака — только пробная вылазка, обошедшаяся, правда, фашистам человек в пятьдесят. Но потеря противником даже пятисот человек не облегчила бы положения Никулина, потому что к переправе беспрерывно подтягивались новые вражеские части. Теперь перед Никулиным скопилось не меньше двух вражеских полков, не считая тех, что успели перебраться на западный берег. Но численность противника не занимала никакого места в расчетах Никулина. Он вел бой за выигрыш времени — и только.
Он помрачнел, узнав, что у Харченко выбыло из строя восемь бойцов. Вместе с потерями на центральной позиции это составляло двадцать шесть человек. Глядя в землю, не поднимая головы, он ждал донесения Крылова. Связной скоро появился перед ним. Взвод Крылова потерял половину бойцов, в том числе самого командира, убитого наповал осколком снаряда. «Прощай, Вася, друг!» — подумал Никулин. Папаша снял бескозырку. Жуков молча глядел в сторону.
Через связного Никулин приказал остаткам взвода покинуть позиции правого фланга и переходить в центр. Он решил по мере возрастания своих потерь сжимать линию обороны, держа людей в одном кулаке.
Подошел Фомичев, сказал:
— Много полегло наших. Человек небось тридцать.
— Сорок четыре человека, — ответил Никулин.
Фомичев протяжно свистнул.
— Крепко!.. А еще и часа не держимся.
— Час и двадцать две минуты, — поправил Никулин, взглянув на часы.