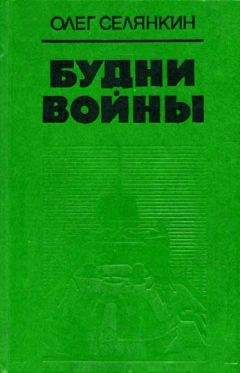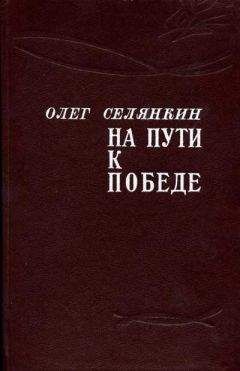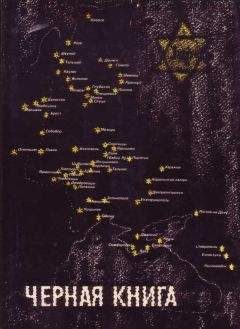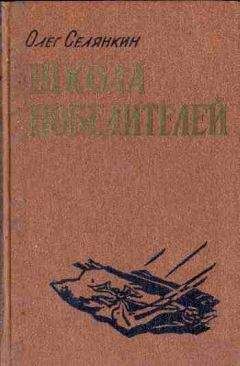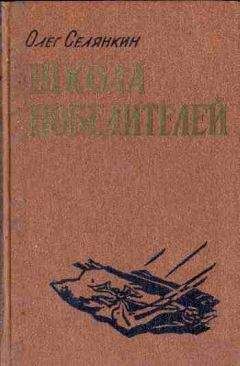Сказал это и замолчал, сжав губы в злую узкую полоску.
— А дальше что? — подстегнул его вопросом кто-то из юных ополченцев.
— Как что? — удивился Карпов. — Жила, жила да вдруг пропала в один распрекрасный день. Вовсе неожиданно. Утром еще воняла, а к ночи взяла и вся вышла. — Помолчал и добавил: — И, как из дому пишут, по сей день не объявилась.
Акулишин намек понял, и зябко стало его затылку, спине, невольно подумалось, что здесь, во фронтовой обстановке, любому человеку, если многие захотят, «потеряться» и вовсе легко. Он торопливо взглянул на капитана Исаева, тая слабую надежду, что уж он-то обязательно одернет Карпова, но тот, помолчав, только и сказал:
— Считаю, этот пес получше иного из нас службу нести будет. Караульную, сторожевую имею в виду. Так и доложу командованию батальона уже завтра на зорьке… Воров в нашем роду не было и не будет.
Пес, когда капитан Исаев заговорил, казалось, ловил смысл каждого его слова. Однако, едва рука капитана Исаева стала опускаться ему на голову, зажмурил глаза, прижал уши и еле слышно утробно заурчал.
Рука капитана Исаева все равно легла псу на голову, пальцы легонько почесали у него за ушами. И тотчас появились, всплыли из глубинных тайников собачьей души забытые воспоминания о человеческой ласке. А пальцы человека неторопливо и уверенно скользнули уже к ошейнику, прошлись по его внутренней стороне и вдруг замерли на мгновение, чтобы потом вытащить записку. В ней было всего три слова: «Его зовут Пиратом».
Капитан Исаев, прочитав вслух эти три слова, сказал, вновь положив руку на лобастую голову пса:
— Мы и с Пиратом уживемся, если он остережется своих покусывать.
— На наших теперешних союзничков намекаете, Дмитрий Ефимович? — с самым невинным видом спросил Юрий Данилович, хитровато поблескивая стеклышками пенсне.
Люди в землянке ответили сдержанным смешком.
Жизнь текла настолько обыденно и удручающе медленно, что казалось, будто невозможно ожидать каких-либо перемен вообще. Не только масштабных, но и малюсеньких, касающихся только их роты. И вдруг в самом конце декабря, когда до новогоднего праздника было рукой подать, фашисты снова начали наступление. Случилось это ранним пасмурным утром, когда казалось, будто тучи, степенно плывущие по небу, вот-вот зацепятся если и не за вершину какой-нибудь вековой липы, чудом уцелевшей в аду, бушевавшем здесь вовсю недавно, то уж за трубы одного из ленинградских заводов — непременно. О начале своего наступления фашисты оповестили ураганным минометным и артиллерийским огнем; сотни вражеских мин и снарядов тогда враз обрушились на линию нашей обороны. Не после завтрака, как неизменно бывало ранее, а за полчаса до него.
Так неистов был вражеский обстрел, что не минуло и десяти минут после его начала, как вокруг наших окопов снег почернел от осевшей на него копоти или вообще скрылся под земляным крошевом, щедро брошенным множеством снарядных разрывов.
В роте капитана Исаева от того яростного огневого шквала потерь не было: едва прогремели первые взрывы вражеских снарядов и мин, все бойцы, оставив в окопе лишь двух наблюдателей, от вражеского огня поспешили укрыться в блиндажах и землянках, сделанных с полным пониманием обстановки, надежно, добротно. Здесь, телом своим чувствуя лихорадочную дрожь земли, и сидели, прижавшись друг к другу, пока вражеский огневой налет не оборвался так же внезапно, как и начался. Прогремел разрыв последней вражеской мины — дружно бросились в окоп, каждый точно на свое место, обжитое, даже по росту подогнанное.
В тот момент места в окопах заняли, когда, исхлестанные отрывистыми командами, на бруствер своих окопов стали вылезать фашисты, большинство — неохотно, с явной боязнью. Но были среди них и такие, что вставали во весь рост и с необъяснимой лихостью, словно смерть или увечье их нисколечко не страшили. Были фашистские солдаты в шинелях и без них. Те, которые вскарабкались на бруствер лишь в одних френчах, поспешили встать на лыжи, услужливо поданные из окопа, и сразу бросились в атаку, истошно вопя что-то; прочие, тоже разевая рты в яростном вопле, побрели за ними, временами проваливаясь в снег чуть не по пояс.
Атакующих фашистов было в несколько раз больше, чем наших бойцов, державших оборону. Но капитан Исаев не испытывал ни малейшей тревоги за исход этого боя, он даже позволил себе крякнуть от удовольствия, увидев, что на лыжах бежали в атаку лишь немногие, что они — каждый сам по себе и как только мог быстро — просто рванулись вперед, не глядя по сторонам, не оглядываясь назад. Он лишь сказал спокойно, зная, что его услышат те, кому положено:
— Снайперам вести огонь только по лыжникам. Сугубо прицельный!.. Всем прочим терпеть до моей особой команды.
Пять снайперов было в роте, все они почти без промедления выполнили его приказ. Чуть погодя, но уже с заметным разнобоем, вновь ударили все те же винтовки. Еще раз, еще, и вот, потеряв почти всех офицеров, фашистские; лыжники стали поворачивать назад. Они уже поняли, что смерть близка, что лишь счастливчикам удастся вернуться в свои окопы; и движения их сразу стали неловкими, излишне торопливыми, крадущими секунды столь драгоценного времени.
А снайперы роты знай себе постреливали. Без особой спешки, выборочно.
В тот момент, когда фашистские лыжники смешались с теми своими однополчанами, которые просто брели по снегу, порой проваливаясь в него почти по пояс, капитан Исаев и крикнул, рубанув рукой по воздуху:
— Огонь!
Будто порыв шалого ветра сорвал часть снега с бруствера, настолько дружен и неистов был пулеметный и автоматный огонь роты. Он бесновался всего лишь несколько минут, а на нейтральной полосе, где, казалось, еще недавно были сотни гитлеровцев, стало безлюдно. Конечно, если не брать во внимание убитых и раненых фашистов. Эти, как и черные воронки от взрывов множества снарядов и мин, неприятно для глаз пятнали снег, изрытый сотнями ног; вражеские трупы и воронки от взрывов мин и снарядов казались чем-то инородным, даже враждебным всему земному.
Теперь можно было чуточку и передохнуть. И капитан Исаев, сдвинув шапку на затылок, как человек, которому выпало поработать на совесть, вытер рукавом шинели пот со лба, посмотрел прежде всего на своих соседей по окопу. Сразу же увидел младшего лейтенанта Редькина. Тот, внутренне бесконечно радуясь, что не струсил в первом для себя бою, тщетно пытался дрожащей рукой засунуть в кобуру пистолет, из ствола которого, чудилось, еще тянулась тоненькая струйка сизоватого дыма. Разумеется, можно было, будто мимоходом, обронить: дескать, стрелять из пистолета почти на триста метров, стрелять по цели — лишь трата патронов, которые в блокадном городе особо высокую цену имеют. Но лицо младшего лейтенанта Редькина щедро излучало такую откровенную радость, что капитан Исаев смолчал, ограничился лишь тем, что потрепал загривок Пирата, с самого начала вражеской атаки сидевшего около его левой ноги и внимательно следившего за каждым знаком, за каждым движением своего нового хозяина. Пират, когда тот побежит вперед, тоже выскочит из окопа и все время будет слева, опережая только на длину своего тела, чтобы немедленно броситься на любого, кто осмелится поднять на него руку. В этом — в защите хозяина — сейчас Пират и видел свое наиглавнейшее назначение.
Младший лейтенант Редькин все-таки засунул свой пистолет в кобуру и, по-прежнему сияя улыбкой, подошел к капитану Исаеву, сказал подчеркнуто официально и чуть торжественно:
— Прибыл в ваше распоряжение. Для восполнения потерь в личном составе, так сказать, для усиления боевой мощи вашей роты.
Рядом, услышав такое, кто-то из матросов восторженно хохотнул и тут же смолк, даже засмущался под укоризненными взглядами товарищей: нельзя, недопустимо высмеивать хорошие порывы человеческой души.
А младший лейтенант, которому его внутренняя восторженность помешала услышать ехидный хохоток, теперь радостно смотрел на Пирата, навострившего уши, спрашивал уже о том, что к недавнему бою не имело никакого отношения:
— Это и есть та самая собака, о появлении которой в вашей роте нам недавно просигнализировали?
Выходит, хотя и предупреждали, все же посмел накапать Акулишин!
Младший лейтенант не уловил смены настроения у людей, находившихся рядом, ему сейчас было просто необходимо говорить и говорить. Чтобы слушать свой голос, как убедительнейшее подтверждение того, что он, Сашка Редькин, не только побывал в недавнем яростном бою, но и вышел из него без единой царапины! И он сказал исключительно для того, чтобы хоть в малой степени удовлетворить это столь внезапно возникшее желание:
— Между прочим, командование бригады одобрительно отзывается о ней, говорит, что она вовсе не даром ест свой паек.