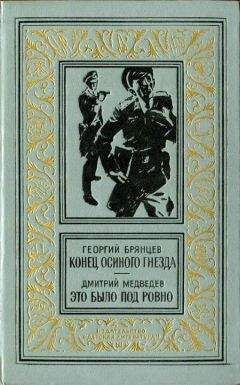Со своим учителем Вальтером Раухом я столкнулся в дверях. Он куда-то торопился. Вернувшись в свою комнату, он сунул мне в руки какой-то иллюстрированный журнал, сказал, чтобы я подождал его, и исчез.
Окно его комнатки, как и моей, выходило в лес. Здесь Раух жил. Здесь и занимался со мной. Работал он на радиоцентре, в отдельном домике.
Я полистал журнал и положил на стол. Взгляд мой остановился на огромных часах, стоявших в углу на тумбочке. Они меня заинтересовали в первый же день, но при Раухе разглядеть их внимательно я не мог. Часы были аккуратно вделаны в резной деревянный футляр в виде старинной готической башни. В нижней части башни имелись воротца, обитые красной медью, с двумя медными кольцами вместо ручек, а шпиль башни венчал пятиконечный крест с распятием. Башня была обнесена рвом, над которым висел перекидной мостик на цепях. Очевидно, футляр делал искусный мастер. Ажурная резьба на карнизах, каждое бревнышко, каждая деталь, звенья цепи, деревянный крест — все было выточено с душой, с любовью. А над воротами башни, на темной деревянной планочке, я заметил три маленькие разноцветные кнопки: белую, синюю и черную.
Я задумался о назначении кнопок. Зачем они здесь? Уж, конечно, не для того, чтобы заводить часы, и не для того, чтобы переводить стрелки.
Я нажал белую кнопку. Часы продолжали тикать. Нажал синюю — то же самое. Попробовал черную — опять ничего не случилось. В чем же дело?
Часы стали отбивать время. Звон был мерный и торжественный.
«А может быть, кнопки для того, чтобы вызывать или прекращать звон?» — подумал я и вновь поочередно, сначала слева-направо, затем справа-налево, нажал на кнопки. Часы продолжали невозмутимо отбивать удары: пять, шесть, семь…
Тут я услышал скрип двери в коридоре. Я отошел от часов и заглянул в дверную щелку. Нет, это шел не Раух, а старик Кольчугин. Он нес в мою комнату охапку дров. Я вернулся к часам. И вдруг услышал грохот. Я застыл на месте. Мне почудилось, будто вот здесь, рядом со мной, кто-то бросил на пол дрова. Но в комнате был я один. Что за чертовщина?! Неужели, если Фома Филимонович бросает дрова в моей комнате, расположенной в противоположном конце дома, грохот слышен здесь? Я еще не догадался, в чем дело, когда услышал пение. Кто-то пел старинную русскую песню, и до меня отчетливо доносилось каждое слово:
Славное море, священный Байкал…
Так петь эту песню мог только русский человек.
Эй, баргузин, пошевеливай ва-а-ал!
Молодцу плыть недалече…
От напряжения и волнения у меня на лбу выступила испарина. В голове шевельнулась догадка. Я приблизил лицо к часам — звуки лились из них, из ворот башни:
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой…
И тут пришла запоздалая мысль: вот для чего нужны кнопки! Все ясно! Я нажал белую — пение продолжалось, синюю — то же самое, наконец, надавил на черную — и пение смолкло. Я опять нажал белую и услышал голос:
Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не догнала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала…
Проверку следовало довести до конца. Я понимал, что в моем распоряжении считанные секунды — вот-вот может вернуться Раух.
Я быстро вышел из комнаты Рауха и устремился к своей. У дверей остановился и замер. До слуха явственно донеслись слова песни:
Я дернул дверь на себя. У печи на корточках сидел старик Кольчугин. Он уставился на меня любопытными глазами.
— Поешь? — спросил я.
— Пою помаленьку, — отозвался Фома Филимонович.
— А я за сигаретами… забыл, — произнес я, схватил со стола пачку сигарет и ушел.
Значит, меня подслушивают. Это ясно. Из моей комнаты в комнату Рауха, который владеет русским языком, идет скрытая проводка, а репродуктор искусно замаскирован в часах. Новость важная. Чрезвычайно важная. Я вернулся в комнату Рауха, нажал на черную кнопку и едва успел закурить, как вошел Раух.
Через четыре дня я сделал новое открытие: во время моих прогулок по городу за мной велась слежка. Выяснилось это так. Проходя мимо дома на окраине города, я обратил внимание на одного человека. Он сидел на деревянной скамье, вделанной в стенную нишу. Погода стояла пасмурная, и можно было подумать, что он укрывается от дождя. Я так и подумал.
На человеке была клетчатая кепка из ткани, обычно идущей на одеяла.
Полчаса спустя в самом центре города я заметил эту «кепку» на противоположной стороне улицы. Я решил на всякий случай проверить этого субъекта. Сделать это надо было так, чтобы не выдать своих подозрений. Я дошел до угла и остановился, засунув руки в карманы. «Кепка» тоже дошла до угла, на мгновение задержалась в нерешительности и пересекла улицу. Я поежился от холода и дождя, потоптался на месте и повернул обратно. Пройдя полсотни шагов, я сделал вид, что оступился, начал растирать ногу и увидел позади себя «кепку». Не ограничившись этим, я решил убедиться еще раз и пошел дальше.
Проходя мимо городской биржи труда, отгороженной от улицы глухим кирпичным забором, я свернул в калитку, сделал несколько шагов и повернул обратно. И при выходе столкнулся нос к носу с «кепкой».
Это был плохой агентик, неопытный, не уверенный в себе. Зная, что во дворе биржи всегда толпится много народу, он, опасаясь потерять меня и, конечно, не ожидая, что я сразу выйду, бросился сломя голову за мной.
Больше в этот день я его не видел, да и вообще никогда уже не встречал. При очередной прогулке в город я опять обнаружил за собой наблюдение, но теперь его вело новое лицо.
Это открытие осложняло мои планы. Надо было что-то придумать. Встречаться с Криворученко, имея за собой «хвост», конечно, нельзя.
Я долго размышлял над тем, как выйти из положения. И придумал. Я решил «подружиться» с шифровальщиком Похитуном. Это был первый человек, заговоривший со мной по-русски на Опытной станции. Он же первый начал заниматься со мной радиоделом. Что-то похожее на сближение наметилось между нами на первом же уроке. Возможно, поводом послужила моя «откровенность» с Похитуном. Я охотно отвечал на все его вопросы и даже выкладывал перед ним свои «взгляды».
Нетрудно было заметить, что Похитун любит не только чеснок, которым от него разило, но и спиртное. Я убедился, что он горчайший пьяница. Водка, получаемая мною, оказалась тем магнитом, который притягивал его ко мне. Алкогольный червяк не давал покоя Похитуну. Первый урок по радиоделу закончился тем, что он, мертвецки пьяный, свалился на свою койку и захрапел тотчас, как только содержимое моей бутылки перекочевало в его утробу.
Но он успел кратко поведать мне о своей жизни. Я узнал, что еще до первой мировой войны Похитун служил бухгалтером в московском филиале крупной немецкой фирмы и по хозяйским делам дважды бывал в Берлине. Там хозяйский сын, немецкий офицер, хвастал в компании собутыльников феноменальной памятью Похитуна на цифры. Похитун мог наизусть пересказать гроссбух филиала за полугодие с тысячами разных чисел. Там же он познакомился с молодым капитаном Габишем. Война 1914 года… Похитун сдался в плен немцам и был подобран Габишем, у которого, по словам Похитуна, «преотличнейший нюх на деловых людей». Похитун был штатным шифровальщиком в царской армии, а стал шифровальщиком в немецкой разведке.
В России у него остались жена и сын, но он о них забыл и в двадцатых годах женился на немке. Жена его — особа с крутым характером, но отменная хозяйка. Она живет сейчас в предместье Берлина, и он получает от нее три письма ежемесячно. Ровно три — ни больше, ни меньше.
Накануне этой войны Похитун почти совсем прекратил пить. «Вылечила» его жена довольно радикальным способом: все, что он зарабатывал, она отбирала до последней марки и складывала в комод, к которому доступ Похитуну был категорически запрещен. Рассчитывать же на угощение друзей почти не приходилось.
А когда Похитун в феврале сорок первого года оказался на фронте и выскользнул из-под контроля жены, он стал опять пошаливать. Итак, у этого типа за спиной почти тридцать лет усердной службы в немецкой разведке…
Я пришел к выводу, что Похитун — человек безвольный, ломкий. Это была личность без личности, какой-то «плывун». Но при всем этом он действительно обладал феноменальной памятью и блестяще знал шифровальное дело. В его голове легко и прочно укладывались всевозможные цифры и коды, сложные цифровые и буквенные комбинации, разнообразные шифровальные ключи.
Эти достоинства спасали его от увольнения с работы за чрезмерную любовь к спиртным напиткам.