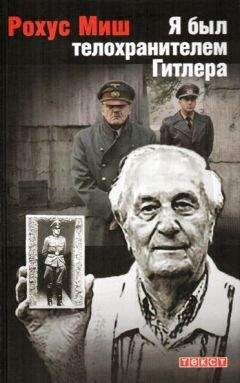Военное совещание началось с опозданием против обычных трех часов. В центральном коридоре собралось очень много народу, должно быть, больше двадцати человек. Я успел заметить Геринга, Гиммлера, Бормана, Дёница, Фегеляйна, Кейтеля, Риббентропа, Шпеера, Йодля, Кребса, Бургдорфа и кого-то еще. Адъютанты спустились несколько раньше остальных. Все близкие были там, почти в полном составе. Стояли все вместе, в последний раз собравшись вокруг шефа в этой уже обреченной жизни. Не знаю, как верховные руководители рейха поздравляли в тот день Гитлера. Все, что я могу вспомнить, это что в тот самый вечер, вскоре после совещания, Геринг поспешно ушел. Он решил той же ночью выехать на юг, где жили в безопасности в горах Оберзальцберга его жена и дочь.
Это был первый из многочисленных отъездов. Гиммлер, Дёниц и Кальтенбруннер не замедлили последовать его примеру. Самолеты были всегда наготове. Машины собирались в караваны, чтобы в самое ближайшее время выехать из города, до того как все дороги будут перекрыты. Адъютант Гитлера по военно-морскому флоту Карл Йеско фон Путкамер вместе с двумя солдатами был отправлен в Бергхоф, чтобы уничтожить все хранящиеся там документы. Сумятица улеглась. Я, кажется, даже не выходил в ту ночь из бункера. Ко мне никто не заходил. Обстановка была похоронная. День рождения Гитлера стал началом конца.
Если я ничего не путаю, то уже на следующий день советские войска вступили в центр Берлина. Артиллерийский огонь сметал все. Гитлера я в тот день почти не видел, но, судя по всему, он был особенно подавленным и на грани нервного истощения.
Я очень беспокоился о жене и дочурке. Поскольку я был обречен оставаться в бункере под ураганным огнем противника, я постоянно звонил им по телефону. Несколько дней тому назад они переехали в Рудов, в южную часть города, к своим родным. По сравнению с нашей квартирой в Карлсхорсте, на востоке города и на расстоянии нескольких километров от передовых отрядов Красной армии, это было гораздо более безопасное место[127]. Вечером 21 апреля, около полуночи, я в очередной раз попытался дозвониться до них. Расстояние между канцелярией и домом в Рудове не превышало пятнадцати километров. И тем не менее сигнал не прошел. В первый раз за всю мою жизнь я не мог связаться с женой. Я не на шутку перепугался. Пытался снова и снова, десятки раз, но так и не дозвонился. Полночь миновала, и в бункере воцарилась тишина. В соседней комнате на походной кровати спали, раскатисто похрапывая, двое часовых. Через некоторое время я узнал, что выведен из строя регулятор центральной телефонной сети в Брице, на юге Берлина. А именно через него проходили звонки в Рюдов. Что делать? Не особо веря в успех, я постарался наладить связь с диспетчерами из Мюнхена, которых я очень хорошо знал, так как часто приходилось с ними связываться по долгу службы. Я знал, что их линия в состоянии поддерживать около 280 одновременных телефонных соединений. Меня соединили. Первому же попавшемуся коллеге я рассказал о своей беде, и внезапно в наш разговор вмешалась телефонистка, которая занималась межгородом. Она учтиво предложила попытать счастья. Я дал ей номер, по которому, возможно, находилась моя жена. Я особо ни на что и не надеялся. И все же через минуту в трубке послышался голос Герды: она не спала.
22 апреля ко мне зашел наш начальник Франц Шедле. Он сказал, что может обеспечить мне место в одном из последних улетающих из Берлина самолетов и что времени до отлета у меня как раз хватит, чтобы съездить за женой и дочкой. Я вышел из бункера, сел в машину, которая была предоставлена в мое распоряжение, и со всей возможной скоростью помчался через превращенный в руины город.
Герда отказалась. Она не хотела оставлять своих родителей одних, да и наша дочь в любом случае была нетранспортабельна. У нее был сильный жар, около 40 градусов. Мы расстались в глубокой тоске. Я пообещал вернуться через несколько дней. Я тогда даже представить себе не мог, что в следующий раз увижу жену и дочь только через десять лет, вернувшись из советского плена.
Вернувшись обратно, я сразу пошел к Францу Шедле в подвалы Новой канцелярии, чтобы сообщить ему о нашем решении остаться в городе. Он поспешно освободил зарезервированное для меня место, чтобы отдать его кому-нибудь другому. Едва я успел устроиться в помещении коммутатора, как ко мне пришел то ли Хентшель, то ли Рецлаф. Тот день был полон событиями. Военное совещание прошло очень бурно. В тот момент, когда военные эксперты докладывали о катастрофическом положении на фронте, фюрер приказал части участвующих в собрании немедленно покинуть помещение. Встреча продолжилась при закрытых дверях. По бункеру поползли слухи о том, что Гитлер в ходе этого заседания впервые объявил о том, что война окончена, что он ни за что не уедет из Берлина и покончит с собой[128].
В бункере царило спокойствие, напряжение улеглось. Возможно, свою роль в этом сыграло решение Геббельса переселиться в комнату в глубине бункера. Его вещи уже переносили. Адъютанту Юлиусу Шаубу было поручено уничтожить содержимое сейфа Гитлера, а тем же вечером он должен был вылететь в Бергхоф, чтобы и там сжечь все личные документы.
Вскоре в коридоре появился Бойгст, радиотехник, и передал своему начальнику Хайнцу Лоренцу телеграмму. Лоренц в абсолютной тишине прочитал депешу и молча пошел в переднюю фюрера. Бойгст казался крайне взволнованным. Я подошел к нему поинтересоваться, в чем дело. Он сказал, что получил сообщение от союзников с просьбой, чтобы Берлин продержался еще как минимум две или три недели. По его мнению, это был верный знак того, что чересчур быстрое продвижение советских войск вызвало раскол среди антифашистской коалиции. В его глазах светился огонек надежды. Когда Лоренц вышел от Гитлера, я повторил ему свой вопрос, и он поведал мне о содержании телеграммы.
— Что по этому поводу думает шеф? — поинтересовался я.
— Он просто сказал: «К чему это? Война в любом случае проиграна! Раньше надо было об этом думать!» — ответил Лоренц.
Слишком поздно. И Гитлер, и кое-кто из его окружения когда-то упоминали о возможности разрыва союза между англо-американской коалицией и СССР. Будучи англофилом, фюрер долго не терял уверенности в том, что англичане рано или поздно изменят свою стратегию по отношению к Германии, с тем чтобы предотвратить распространение большевизма в Европе. Он не мог понять, как народ, «столь одаренный в торговых делах и предпринимательстве», может сотрудничать с коммунистами. Эти слова я слышал много раз. Но в тот вечер этот вопрос был уже не актуален.
Я еще раз предпринял попытку дозвониться до жены. Линия работала, но к телефону никто не подошел. Герда, должно быть, ушла с родителями и дочкой в одно из больших бомбоубежищ для гражданского населения. В последние дня войны они его практически не покидали[129]. Устав названивать, я лег спать.
23 апреля Геббельс распространил через прессу и по радио заявление о том, что фюрер останется в городе, чтобы организовать оборону. Ближе к обеду Гитлер вышел на улицу со своей собакой Блонди. Он не прошел и нескольких шагов, как ему снова пришлось спуститься в бункер по пожарной лестнице в сопровождении охранников из нашего отряда. Тогда Гитлер в последний раз оказался на свежем воздухе. С этого дня и до своей смерти он не выходил за пределы голых бетонных стен своего последнего пристанища.
Начался великий исход. Секретарши Христа Шредер и Иоганна Вольф уехали на юг Германии[130]. Личный врач фюрера Теодор Морель также улетел самолетом. С каждым часом людей в бункере оставалось все меньше. Ночью 23 апреля я видел, как офицеры из службы безопасности со всех ног бегут с цинковыми ящиками, чтобы успеть погрузить их в последний вылетающий из Берлина самолет Ю-52. В них содержались оригиналы стенографических записей всех встреч Гитлера начиная с 1942 года. Шеф считал, что это документы неоспоримой ценности, которые во что бы то ни стало нужно переправить в безопасное место[131].
В последние дни атмосфера становилась все более странной. К страху начала примешиваться тоска. Как вырваться из этого гнетущего места? И как вообще выйти живым из бункера, не выдав предчувствия неотвратимой катастрофы? Эти вопросы мучили всех, но никто ничего не говорил вслух. Обитатели бункера проходили мимо моей комнаты быстрым шагом, с угрюмыми лицами и блуждающими взглядами. Гитлер казался вымотанным, во власти внутреннего возбуждения чудовищного накала, однако ему удавалось в большинстве случаев сохранять хладнокровие. Я не слышал, чтобы он стенал или кричал. И днем, и ночью он по-прежнему возглавлял совещания, которые раз от раза становились все короче. И все же он не производил впечатления человека, который верит в то, что он еще в состоянии как-то изменить сложившуюся ситуацию.