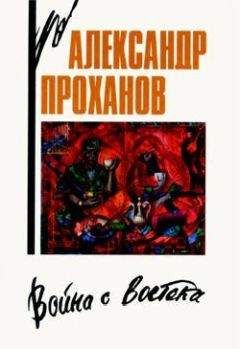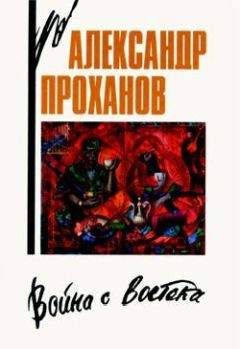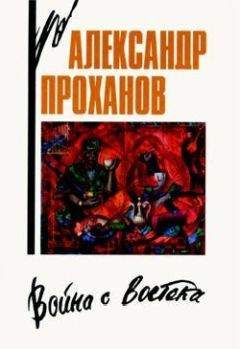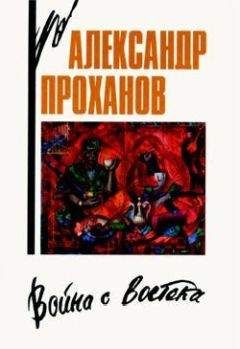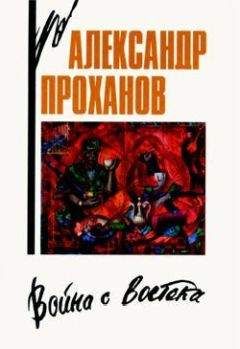Его искушали. Ему предлагали предать. Хайбулина грубоватого, резкого, отобравшего миноискатель на склоне, упавшего среди коз на горе. Пылкого таджика Саидова, который был ему переводчиком на встрече в афганском полку: когда, возвращаясь, сидели бок о бок. Саидов рассказывал, какой у них дома сад. И того казаха Мукимова, которого он не застал, но которого помнили в роте: отбивался от атакующих «духов» до последнего патрона, до последней гранаты. Их всех предлагали предать.
Укрепляя себя, готовя себя к поединку, он по-прежнему тянулся к милым образам. Это были образы леса с черной мокрой дорогой, с длинными лужами, в которых голубела вода и лежали палые листья, а потом вмерзали в белый лед с пузырьками и каплями света. И сквер у Большого театра, где в День Победы собиралось много людей и ветераны в орденах смеялись, бодрились, а ему хотелось плакать, обнять их всех, удержать на весеннем свету. И тот хор в сельском клубе, где пели старинную песню, и девочка, бледная от волнения и страсти, подымаясь на цыпочках, выводила: «Ничего в волнах не видно, одна лодочка темнеет…», и хор всей мощью голосов и дыханий, как дубрава в бурю, подхватывал ее тонкий напев. Все это возникало, поило его чистыми силами, и он укреплялся, зная все наперед, со всеми прощался.
Охранники заскользили в сумерках, разбредались и снова сходились. Сложили ворох верблюжьих колючек. Пустили на него маленький трескучий огонь. Пламя проело сплетение стеблей, затанцевало, заструилось. Горбоносые красные лица, бороды и винтовки были в пляшущих копотных отсветах.
– Ты, конечно, можешь не согласиться, – продолжал англичанин. – Но потом ты будешь жалеть. Я лично не причиню тебе никакого вреда. Уеду. У меня еще много дел. Через несколько дней люди Ахматхана атакуют Гератский мост, и я буду снимать атаку, взорванный мост. Это опасная, трудная операция, но я авантюрист, ты уже знаешь. Поэтому я и иду. Завтра утром на «тойоте» уеду и больше уже не вернусь. А ты останешься здесь. Не знаю, что они с тобой сделают, эти людоеды. Может, для забавы отрубят тебе руки и ноги. Может, привяжут за хвосты лошадей и начнут таскать по поселку, тоже для забавы. Может, просто, во славу аллаха, пустят тебе пулю в лоб. Или же, что тоже возможно, станут возить с собой, накачивая опиумом, чтобы ты не сбежал, и ты, протаскавшись неделю-другую, умрешь где-нибудь на переходе от теплового удара. Но меня тогда уже не вини. Я буду здесь ни при чем. Ты сам себе выберешь такое…
Морозов понимал: его враг могуществен. Во всем сильнее его. И даже сильнее людей Ахматхана. Его не убить, на него не кинуться, не сдавить ему горло. Англичанин крепок и сух, из гибких и твердых мускулов. Кобура его не застегнута. И блестят винтовки охраны. От него не убежать и нес крыться: откос, усеянный минами, кишлак, полный врагов, небо с чужой звездой, к которой нельзя улететь. Рыжеусого не умолить, не разжалобить. Ни слезами, ни памятью о матери, ни именем жены, в знак верности которой он носит кольцо. Не обмануть – его сильный лукавый ум был сильнее, чем ум Морозова. Он гнал осторожно и ловко, подгоняя к своей цели.
– Я вижу, ты облизываешь губы. И глаз у тебя весь красный – должно быть лопнул сосуд. Эти варвары, как я понимаю, не дали тебе даже попить. Ну ничего, сейчас мы сделаем запись и пойдем ко мне. У меня есть отличный чай. И немного виски. Освежишься. Будем чаевничать! Будем с тобой отдыхать!..
Он поставил на землю перед Морозовым рюмочку микрофона. Включил в приборе красный глазок.
– Ну, с чего начнем?…
«И сейчас я начну говорить? И сейчас я начну отрекаться? И этот, с тонким пробором, унесет мое отречение? И отец, включив в кабинете транзистор, услышит мой голос?»
Что еще сказал англичанин? Через несколько дней враги нападут на мост. Быть может, его товарищи будут падать, сраженные меткими пулями. Пробитый гранатой, станет гореть транспортер. А он, Морозов, не кинется их защищать, погубит своим отречением.
Тоска его была непомерна. Дыхание прекращалось. Из сердца поднимался к губам долгий неслышный сон. Что-то приближалось, еще безымянное, грозное, стоглазо мерцавшее, спасавшее его навсегда от этой муки и боли.
Он собрал в своем сердце всю молодую страшащуюся жизнь. Резко вскочил. И кинулся с откоса вниз, на мины, как в воду.
Он почувствовал жесткий удар. Еще и еще. Врезался в осыпь камней. Ударяясь, кружась, волоча за собой камнепад, завернулся в каменное сыпучее одеяние. Увидел две длинные желтые вспышки, должно быть, из винтовок конвойных. И малую, беловатую, из направленного ему вслед пистолета. Вблизи громогласно и ало взорвался шар света – лопнула мина, потревоженная падением камня. Снова удар в затылок. И, теряя сознание второй раз за сегодняшний день, он все еще видел родное лицо Наташи, мелькнувшее над ним напоследок.
Он очнулся на дне ложбины, куда сверху продолжали катиться и сыпаться камни. Засыпали его, и он лежал среди шевелящегося, сдвигающегося оползня, неся в себе гулкую глухоту удара, красного полыхнувшего взрыва. Секунду собирал себя, впускал снова жизнь. Весь прожитый день, как узкое пламя, втек в него, и он, шевельнувшись от ужаса, вновь пережил свою смерть. Тот последний толчок воли и мужества, бросивший его под откос. И этот же импульс, протолкнувший его сквозь смерть, пронесший сквозь минное поле и острые камни, поднял его теперь. Сбрасывая с себя щебень, вскочил разом, как гибкий, готовый броситься зверь.
Почувствовал боль в разных частях тела. Но боль не мешала двигаться, и он метнулся вниз по ложбине, в темноте, на ощупь, подальше от места, где шуршала и катилась гора. Бежал несколько минут машинально, понимая одно: смерть его миновала, и он жив после собственной смерти. Им двигал не разум, а вся молодая уцелевшая жизнь, ликующая оттого, что живет, убегающая от страшного места.
Но потом его звериную подвижность сковал испуг. Испуг был от близкой, окружавшей его опасности. Плен мог повториться. Ловкие, знающие местность люди уже перескакивали с камня на камень с винтовками наперерез, отрезали ему путь к бегству, кидались на него из тьмы, заваливали, ломали руки. И вели вверх по тропе, где горел маленький красный костер, и англичанин с пробором улыбался сквозь усы, застегивая кобуру. И он решил не идти по ложбине вниз, куда, куда катится камень, стекает вода и куда вначале его повлекло чувство страха, сила притяжения земли, а действовать вопреки притяжению, вопреки чувству страха – двинуться вверх по ложбине.
Он повернул и проделал обратный путь к месту, где недавно очнулся. Здесь все еще шуршало и сыпалось. В ногу ему стукнул маленький камушек. Он взглянул на темный, уходящий в звездное небо откос, где были мины, где только что он падал, избегая пуль, кинулся вверх по ложбине, по плотному хрустящему желобу, оставленному иссохшим потоком. Натыкался на камни, хрипел, задыхался, толкал себя вверх.
Он достиг той части ложбины, где сходились основания двух гор. Карабкался по каменистому крутому склону среди звезд, дуновений ночного ветра, кремниевых скрежетов, собственных стонов и всхлипов. Останавливался, прислушивался к звукам погони.
Погони не было. Должно быть, те, наверху, решили, что его тело разорвало миной, и ждали рассвета, чтобы поглядеть на него. Значит, ночь он мог двигаться. Мог от них удалиться на расстояние ночи. И он шел и карабкался, не отдыхая, отдаляя себя от селения, от горчичной, с красной кляксой стены, от стоящего на земле диктофона со стрелочкой к стеклянном глазке. Он одолел две горы, все вверх, по распадкам, и ткнулся в тупик. В темноте камни не пускали его. Он страшно устал. Все болело. Опустился на землю, решив дождаться рассвета и тогда одолеть преграду.
Лежал, смотрел на звезды. Дыхание его было горячим и частым. И он, подняв лицо к беззвучному сверканию небес, повторял: «Я жив! Неужели?…»
На сером рассвете, выдавившем из неба контуры гор, он одолел кручу и оказался по другую сторону третьей горы, отделявшей его от кишлака. Встретил день среди безжизненных, серых, медленно накаляемых склонов, на которых висели длинные косы ржавчины, как в старых пустых водостоках. Мучительно хотелось пить.
Он осмотрел себя. Зеленая хлопчатобумажная форма была продрана, висела клочьями. Сквозь прорехи виднелись липкие ссадины. Ладони с тестом пыли казались толстыми, вспухшими, с красными трещинами на складках. Голова от малейшего движения наполнялась страшной громкой болью. Но тело не было разбито. В падении гибко и пластично принимало удары и теперь было готово к движению. Вот если бы горный ручей!
Солнце поднималось белым злым шаром. Земля была как зола. Он глядел, как исчезают на склонах тени, понимая, что для него начинается новая мука – борьба с солнцем, стремившимся совершить то, что не удалось сделать людям. – убить его. Ион приготовился к этой борьбе. Снял китель и майку. Огладил кровоподтеки и ссадины. Снова надел рубаху, а майку намотал на голову. «Синяя чалма», – попробовал он усмехнуться.