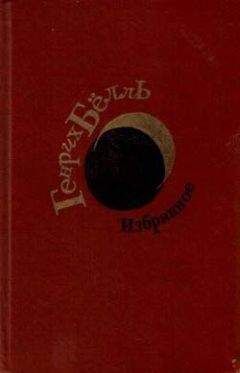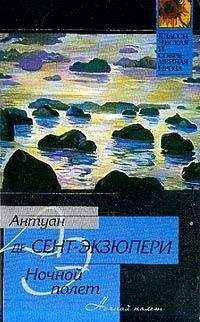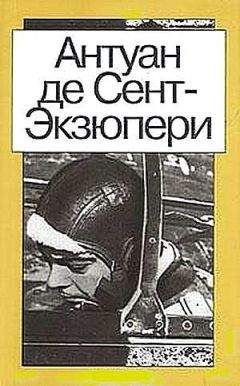В 1933 году он окончательно расстался с банком, чтобы целиком посвятить себя музыкально-воспитаной работе в самой партии. Его статья получила положительную оценку в другой музыкальной школе и после некоторых сокращений была напечатана в каком-то музыкальном журнале. Фильскайт и сам стал сочинять музыку. Он был в чине обербанфюрера в «гитлерюгенд», но его мужские хоры, смешанные хоры и ансамбли декламаторов пользовались доброй славой и у штурмовиков и у эсэсовцев. У него был неоспоримый дар руководителя. Когда началась война, он упорно отказывался от «брони», рвался на фронт и добивался зачисления в эсэсовские части «Мертвая голова», но его ходатайство дважды отклонили, – потому что он был черноволос, мал ростом и явно принадлежал к пикническому типу. Никто и не подозревал, что дома Фильскайт часами простаивал перед зеркалом и в полном отчаянии снова и снова убеждался в очевидной истине: он не принадлежал к расе Лоэнгрина, которую боготворил.
И все же после третьего ходатайства Фильскайта приняли в эсэсовскую часть, поскольку нацистская партия дала ему отличные рекомендации.
В первые годы войны его репутация знатока хорового пения принесла ему много страданий: вместо фронта он попал на военно-музыкальные курсы, потом сам стал руководителем таких курсов, а под конец руководил семинаром для руководителей курсов. Он руководил хорами целых эсэсовских армий, и одним из его шедевров был хор легионеров тринадцати национальностей. Легионеры пели на восемнадцати разных языках, но несмотря на это, исключительно слаженно исполняли хор из «Тангейзера». Позднее Фильскайта наградили крестом «За военные заслуги» I степени, одной из редчайших военных наград. Он по-прежнему рвался на фронт. Но лишь после двадцатого рапорта его командировали на особые курсы, и оттуда он наконец попал в действующую армию. В 1943 году он получил под начало небольшой концлагерь в Германии, а в 1944-м стал комендантом одного из венгерских гетто. Позднее, когда началось новое наступление русских и гетто пришлось эвакуировать, Фильскайта перевели в этот небольшой лагерь на севере Венгрии.
Неукоснительное выполнение любого приказа было для него делом чести. Он сразу оценил необычайную музыкальную одаренность своих заключенных. Это вообще поражало его в евреях. В лагере Фильскайт разработал особую систему отбора: каждый новый заключенный препровождался к нему на пробу голоса. На учетной карточке Фильскайт отмечал певческие способности новичка баллом от нуля до десяти. Нуль он выставлял лишь немногим – они сразу же поступали в лагерный хор, а те, кому доставался балл десять, только день-другой оставались в живых. При отправке заключенных в другие лагеря Фильскайт сам делал отбор, стараясь сохранить группу хороших певцов и певиц, и его хор всегда был полностью укомплектован. Этим хором он руководил с не меньшей строгостью, чем в свое время хором в ферейне «Конкордия». Лагерный хор был его гордостью. Он вышел бы с ним победителем на любом хоровом смотре, но, увы, публикой на концертах хора были только полумертвые узники да лагерная охрана.
Приказы для Фильскайта были более святы, чем музыка. В последнее время многочисленные приказы ослабили его хор. Гетто и лагеря в Венгрии были ликвидированы, больших лагерей, куда он раньше пересылал евреев, уже не существовало, а его маленький лагерь был расположен в стороне от железной дороги. Пришлось уничтожать заключенных на месте. Но и теперь в лагере оставалось еще достаточно служб – кухня, крематорий, бани, – чтобы сохранить по крайней мере лучших певцов.
Фильскайт неохотно уничтожал людей. Сам он еще никого не убил, и его страшно угнетало то, что он не может убивать. Но он понимал, что это необходимо, он преклонялся перед мудростью приказов и пунктуально выполнял их. Личное участие он считал делом не столь уж важным, главное – понять необходимость этих приказов, уважать их и выполнять…
Фильскайт подошел к окну и увидел, что позади зеленого автофургона остановились еще два грузовика. Усталые шоферы вылезли из кабин и медленно поднялись по ступенькам в караульное помещение.
Гауптшарфюрер Блауэрт в сопровождении пяти человек прошел в ворота и открыл большие, тяжелые, с мягкой обивкой дверцы мебельного фургона. Люди внутри закричали. Дневной свет ослепил их, и они кричали – надрывно, долго, а потом стали выпрыгивать из фургона и, шатаясь, пошли туда, куда им указывал Блауэрт.
Первой была молодая женщина – темноволосая, в зеленом перепачканном пальто. Очевидно, платье на ней было разорвано – она опасливо придерживала одной рукой пальто, а другой прижимала к себе девочку лет двенадцати. У обеих не было никаких вещей.
Люди вылезали из фургона и строились на лагерном плацу. Фильскайт про себя пересчитывал их. Здесь были мужчины, женщины, дети, – люди разного возраста, по-разному одетые, совершенно непохожие друг на друга. «Шестьдесят один человек», – отметил Фильскайт. Из фургона больше никто не показывался – стало быть, шесть человек умерло. Зеленый фургон медленно проехал вперед и остановился перед крематорием. Фильскайт удовлетворенно кивнул. Из кузова скинули шесть трупов и поволокли их в барак.
Вещи прибывших свалили в кучу перед караульным помещением. Люди соскакивали на землю и с двух грузовиков, стоявших за мебельным фургоном. Фильскайт считал медленно смыкавшиеся шеренги. Получилось двадцать девять шеренг по пяти человек. Гауптшарфюрер Блауэрт закричал в мегафон:
– Слушайте все! Вы находитесь в пересыльном лагере. Пробудете вы здесь недолго. Сейчас по одному проходите в канцелярию, а оттуда к господину коменданту, он лично опросит каждого, потом все пройдут санпропускник и дезинфекцию и после этого получат горячий кофе. Кто окажет малейшее сопротивление, будет пристрелен на месте. – Блауэрт кивнул в сторону пятерых солдат, стоявших за его спиной с автоматами на изготовку, и на сторожевые башни с пулеметами, направленными теперь на лагерный плац.
Фильскайт нетерпеливо шагал взад и вперед по комнате, то и дело подходя к окну. Он заметил среди прибывших несколько белокурых евреев. В Венгрии вообще часто встречались белокурые евреи. Фильскайт ненавидел их еще больше, чем темноволосых, несмотря на то, что многие из них могли бы украсить любой альбом с портретами представителей нордической расы.
В окно Фильскайт видел, как первой в канцелярию поднялась женщина в зеленом пальто и разорванном платье. Он сел, вытащил из кобуры пистолет и, сняв его с предохранителя, положил перед собой на стол. Через несколько минут она войдет сюда и будет петь.
Последние десять часов Илона непрерывно ждала, когда же придет настоящий страх. Но страха не было. Немало вытерпела и пережила она за эти десять часов: отвращение и гадливость, голод и жажду; когда же ей удавалось забыться – иногда на миг, а иногда и на четверть часа, – она испытывала какое-то странное, холодное блаженство; она чуть не задохнулась в машине, когда в лицо ей вдруг ударил свет и она поняла, что всему конец. Но страха она ждала тщетно. Страх не приходил. Мир, в котором она жила вот уже десять часов, был призрачный, как действительность, окружавшая ее, призрачный, как все то, что она не раз слышала об этой действительности. Но, оказывается, слушать об этом было страшнее, чем испытать все самой. Из немногих желаний, какие еще жили в ней, самым сильным теперь было – остаться одной и искренне помолиться.
Она совсем иначе представляла себе, как сложится ее жизнь. До сих пор ее жизнь была светлой, красивой, почти такой, как она мечтала, хотя Илона давно уже поняла, что ее мечтам не суждено осуществиться; но того, что случилось теперь, она не ждала, до последнего дня она надеялась, что судьба пощадит ее.
Теперь ей уж недолго мучиться. Если все и дальше пойдет так гладко, то самое большее через полчаса ее уже не будет в живых. Ей повезло, она была первой. Она хорошо знала, о каких банях говорил тот человек с мегафоном, и она подумала о мучительной агонии, которая протянется минут десять. Но это казалось еще таким далеким, что не вызывало в ней страха. В кузове автофургона ей довелось испытать много ужасного, неведомого раньше, но все это внутренне не задело ее. Кто-то пытался ее изнасиловать – какой-то парень, его похоть обожгла ее в темноте, – теперь в толпе она тщетно пыталась узнать его. Другой защитил еe – пожилой человек, судя по голосу; потом он шепотом рассказал ей, что арестовали его из-за пары штанов, из-за одной только пары старых штанов, купленных им у немецкого офицера. Но и этого человека она не могла теперь узнать. Тот молодой парень тискал в темноте ее груди, разорвал на ней платье, целовал в затылок. К счастью, старику удалось оторвать от него Илону. И торт у нее из рук выбили – небольшой пакет, единственное, что она захватила с собой, – торт упал, и когда она в темноте шарила руками по полу, ей попались лишь раскрошенные кусочки, пропитанные грязью и сливочным кремом. Вместе с Марией она ела их. В кармане у Илоны тоже лежал кусок раздавленного торта, и когда несколько часов спустя она вспомнила о нем, он оказался удивительно вкусным; она вытаскивала маленькие, липкие кусочки из кармана, давала ребенку и ела сама, и он был изумительно вкусен – этот искрошенный, испачканный торт, остатки которого она выуживала из кармана.