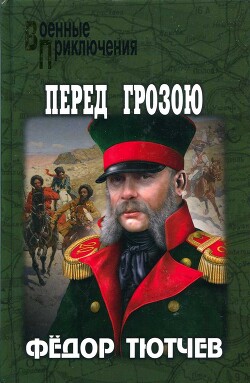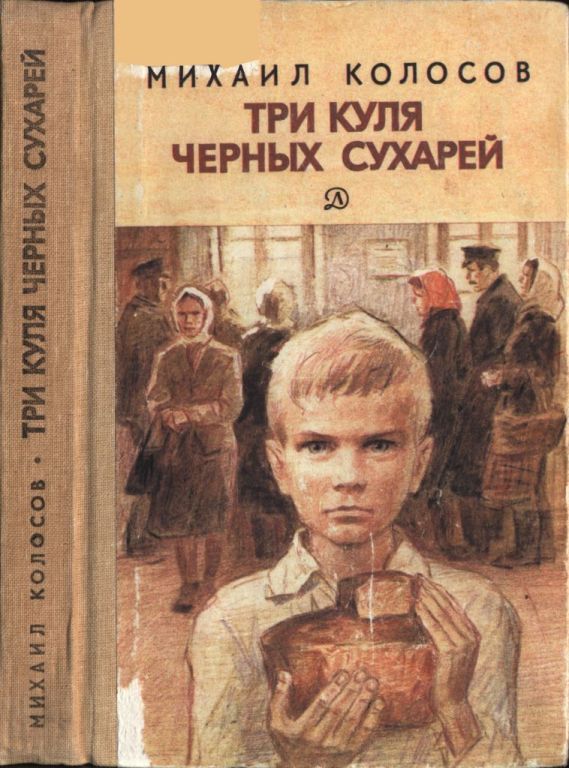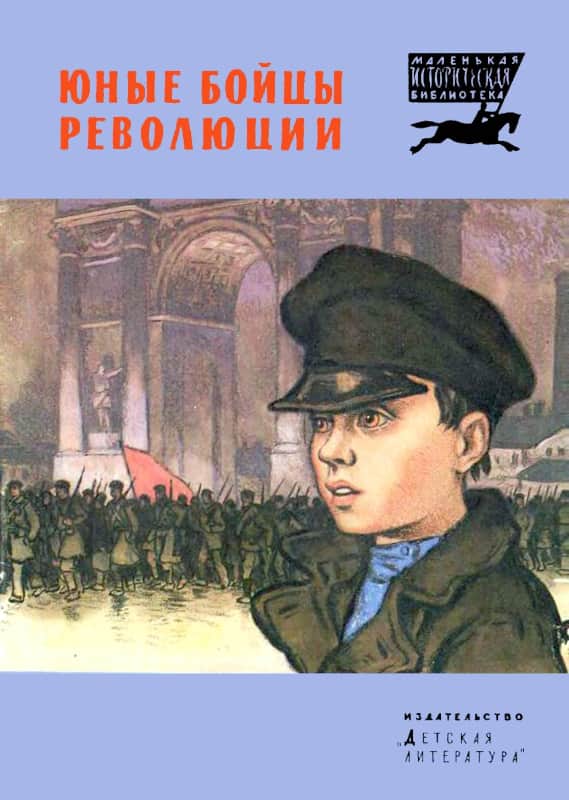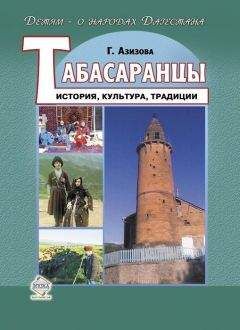Благодаря его плену они обречены на гибель. До ночи они еще, может быть, как-нибудь продержатся, с наступлением же сумерек их, несомненно, перебьют. Но к удивленно своему, Спиридов теперь не чувствовал никакой жалости к ним. Ко всему, что не касалось его плена, он относился с полнейшим равнодушием. Не только происшествие вчерашнего дня, но все бывшее с ним несколько часов тому назад представлялось ему как что-то очень, очень отдаленное. Между тем временем, когда он был свободным человеком, и моментом, превратившим его в раба, легла целая вечность. Все, даже сама природа, казалось ему совершенно в ином виде, и он смотрел вокруг себя, на небо, на землю, далекие горы, на идущих рядом с ним людей странным, недоумевающим взглядом как на нечто новое, не виденное или виденное, но совершенно в другом освещении.
Как бы погруженный в тяжелый кошмар, шагал Спиридов, не чувствуя ни усталости, ни боли, не замечая ран, которыми быстро покрылись его не привычные к ходьбе босиком ноги. Он даже не заметил, как снова переправился на противоположный берег не в том месте, где переезжал несколько часов тому назад, а гораздо ниже.
Очнулся Петр Андреевич только при наступлении ночи, и то лишь потому, что ведшие его разбойники, выбрав удобное место у подножиоя скалы для предстоящего ночлега, приказали ему остановиться.
Он машинально повиновался и тотчас же лёг на спину там же, где стоял, и устремил глаза на бесчисленные звезды, мигавшие над ним в безбрежном пространстве темно-синего неба. Сколько прошло времени, Спиридов не знал, и не мог дать себе отчета. Он не спал, но в то же время это и не было бодрствованием, так как он ничего не чувствовал и не видел из всего происходившего вокруг него. Он лежал и смотрел на звезды, а в голове его вяло бродили какие-то бесформенные, нелепые мысли. Вдруг он увидел подле своих ног чью-то знакомую фигуру; он пристально вгляделся и в окружающем полумраке распознал суровое лицо Дорошенко. Как ни неожиданно было появление Дорошенко в такую минуту и в таком месте, но Спиридова это нисколько не удивило: он продолжал лежать в той же позе и молча и сосредоточенно рассматривал лицо старого казака. Вдруг губы его слегка дрогнули и зашевелились, он начал что-то говорить, но звука его голоса не было слышно. Впрочем, Спиридов и не слыша понял все, что хотел ему сказать Дорошенко.
Дорошенко рассказывал ему о своей смерти, о смерти товарищей. О том, как свирепые горцы изрубили их, отсекли им всем четверым головы и, раздев донага, бросили на растерзание хищникам. И теперь наши страшные, изуродованные головы с отрезанными ушами и носами, с вырванными глазами будут торчать на острых шестах вокруг аульной мечети, и мальчишки с визгом и воем, подобно чертенятам, станут вертеться вокруг, плевать и бросать в них грязью. Тем временем голодные чекалки по клочьям разнесут тела наши, далеко на все стороны растащат кости, и никто никогда не узнает места, где геройскою смертью легли мы, четыре храбрых казака, не пожелав спасаться врассыпную, а решив: лучше умереть, да вместе, поддерживая один другого до последнего издыхания.
— Ты думаешь, — прозвучал беззвучный вопрос Дорошенко, — я не мог уйти? Мог. И я, и Панфилов, мы оба могли уйти, у нас у обоих лошади были еще свежие, а до Терека оставалось немного, но мы остались, так как видели, что ни Пономареву, ни тем паче Шамшину на его хромом коне не ускакать от погони; и мы, видя это, остались, а ты вот ускакал, но пользы тебе от этого не вышло никакой.
— Никакой, — соглашается Спиридов, — лучше бы я остался с вами, смерть легче, чем то, что я испытываю теперь.
— Верно. Зачем же ты уехал?
— Вы же уговорили меня. Я думал спастись самому, спасти и вас, вернуться назад с казаками и прогнать чеченцев.
— И ты мог это сделать, если бы не был так непозволительно глуп. Где были твои глаза, как мог ты попасться в такую дурацкую ловушку? Если бы ты не послушался голоса этого мерзавца, беглого русского солдата, ты легко бы проскакал через их толпу. Стрелять бы они в тебя вблизи казачьих постов не посмели бы, чтобы выстрелами не навлечь на свою голову русских, а догнать и захватить живьем тоже не могли бы. Они были пешие, а ты на лошади. Как же ты не сообразил всего этого и сам добровольно отдался им в руки? Вот за это тебя и бьет теперь Азамат, и долго и часто будут бить и всячески унижать. Это тебе будет расплатой за то, что ты сманил нас и ради своей прихоти повел на верную смерть. Зачем ты выбрал тот путь, по которому поехал? Чтобы несколькими днями раньше приехать в Петербург? Чтобы показать свою удаль? Впрочем, ты хорошенько и сам не знаешь зачем. Письмо, полученное тобою, вскружило тебе голову. Ты только об одном и думал, как бы поскорее, поскорей увидеть ту, к которой некогда рвалось твое сердце и которую, не напиши она тебе, ты бы в конце концов позабыл.
— Нет, никогда бы не позабыл, — возражает на это Спиридов. — Все три года, что мы расстались, ее образ жил в моем сердце, и душа моя тянулась к ней как к недосягаемому, но страстно желаемому блаженству.
— Ты так думаешь, потому что еще живешь, но когда смерть разлучит тебя с телом, ты поймешь, насколько все это ничтожно, как все те блаженства, какие ожидали тебя, далеко не могут окупиться твоими теперешними страданиями и теми, которые тебя ждут впереди. Как жестоко, безрассудно поступил ты, обрекши из-за них нас четверых на мученическую смерть и лишив наши тела погребения. Впрочем, не думай, что мы сердимся на тебя за это; нет, мы, умирая, даже и не думали обвинять тебя, мы, выезжая с тобой из крепости, знали, на что шли, и, зная, все-таки поехали. Ты спросишь: почему? По той простой причине, что с детства привыкли верить в непреложную истину: от судьбы не уйдешь и того, что написано на роду, не минуешь. К тому же мы смотрели на поездку с тобой как на службу. Для тебя это было личное дело, блажь, а для нас — служба, святой долг, исполняя который мы не задумавшись сложили свои головы. Однако я заболтался с тобой, мне пора к товарищам, туда, где теперь, во мраке ночи, сиротливо белеют их изуродованные тела. Они зовут меня, я слышу их призыв; при жизни мы были вместе, вместе пали под ударами вражеских шашек, не разлучаемся и после смерти.
Сказав это, Дорошенко встал, наклонился над Спиридовым, пристально взглянул ему в его широко открытые глаза и вдруг постепенно стал таять и, мало-помалу превратясь в легкое облачко, исчез в окружающем полумраке.
XIV
На другой день, когда разбойники, проснувшись при первых лучах солнца, подошли к Спиридову, они увидели его лежащим без движения, с бледным, посинелым лицом, какое бывает только у покойников. В первую минуту горцы подумали, что он умер. Азамат уже обнажил было кинжал, чтобы по горскому обычаю срубить гяуру голову, с тем дабы впоследствии украсить ею стену мечети, как вдруг Спиридов тяжело вздохнул и полуоткрыл глаза, но вслед за этим снова впал в беспамятство.
Озадаченный Азамат предположил сначала, что проклятый гяур притворяется; он яростно схватился за плеть, но никакие самые жестокие удары не могли принудить Спиридова подняться; он открывал глаза, стонал, но не шевелился.
— Брось, Азамат, — сказал наконец рябой парень, подходя к татарину и вырывая из рук плеть, — не видишь, заболел человек. Оставь его в покое, дай вылежаться, может быть, и очнется.
— Я его зарежу, проклятого! — скрежеща зубами, закричал Азамат.
— Что ж, пожалуй, режь, — хладнокровно возразил ему парень, — только какая тебе от этого польза? За голову его тебе не дадут и старого черствого чурека, а за живого ты можешь получить столько денег, сколько не только тебе одному, а десяти таким дуракам, как ты, никогда и не сосчитать. Я знаю этого офицера, он очень богат и притом сын главного русского генерала; если ты его живым и целым доставишь Шамилю, он, наверно, по-царски наградит тебя.
Выслушав речь парня, Азамат задумался.
— Хорошо, — согласился он, — ты, Иван, правду говоришь. Пусть живет, проклятая собака; но что же мне с ним делать?