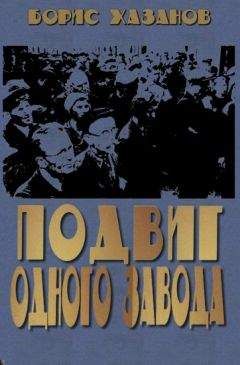Мы оставляем на скирде соломы — это наш НП — одного наблюдателя и идем обсушиться в дом.
От скирды дом совсем недалеко. Встречают там нас гостеприимно. Хозяева необычные — американец Ион Бод-нар и его супруга.
На крыльце около двери прибита медная табличка: «Этот дом принадлежит американскому гражданину Иону Боднару, юридические права которого охраняются по поручению американского правительства швейцарским посольством в Будапеште».
Так он и благоденствовал, Боднар, за этой табличкой при мадьярах.
Теперь мадьяр вышвырнули. Пришли мы, и рядом с медной табличкой русский офицер прилепил неказистого вида бумажку с переводом: «Этот дом… охраняется…»
Когда-то Боднар жил в Нью-Йорке. Был капельмейстером. От прежней профессии у него и сейчас кое-что сохранилось: фуражка и дирижерская палочка… Музыку он оставил. Приехал сюда, потому что «врачи советовали переменить климат», и занялся сельским хозяйством.
У Боднара шесть гектаров только одной пшеницы, много кукурузы, винограда, большой скотный двор.
Сам он, так же как и его жена, разумеется, вилы или грабли в руки не берет.
Боднар целыми днями сидит в качалке на веранде, дымит трубкой и смотрит, как работают в поле батраки. Верный своей привычке, он и сейчас не покидает веранды, хотя бой идет совсем близко. Сидит без опаски, словно медная табличка, прибитая на крыльце, может защитить его и от осколков снарядов.
— Вот куркуль! Настоящий кулак, капиталист! — кипятится Кучер, шагая по боднаровским владениям.
— Ты, Кучер, молчи, — охлаждает его Валиков. — Он тебя супом бесплатно кормит. Знаешь, на нашу ораву сколько надо?..
«Орава» у нас большая: десять человек. Мы входим в дом. Ион Боднар дает распоряжение жене и дочери:
— Солдатам — жареную свинину и чай, офицерам — курицу и кофе.
После ужина Богомазов, Козодоев и Таманский вместе с пятнадцатилетней дочерью Боднара — девочкой очень общительной и непосредственной — играют в карты, в дурака. Ей русская игра очень нравится, она визжит от удовольствия.
Остальным делать нечего. В этом доме только и можно играть в дурака.
Несколько раз пытаемся завести с хозяином беседу, но несмотря на то, что лейтенант Бородинский неплохо знает английский язык, разговор не клеится. Боднар о политике не говорит. К жизни Советского Союза интереса не проявляет. Остается еще одна тема — литература. Но Боднару неизвестны ни Генри, ни Толстой.
Мы шарим глазами по стенам: книг в доме нет. Да и к чему они деловому человеку? Деловой человек должен сидеть на террасе и курить трубку…
Несколько дней повторяется одно и то же: днем — перестрелка, бой, вечером мы в гостях у Боднара.
Потом получаю приказ: переменить наблюдательный пункт левее по фронту. Такая же скирда, и сзади нее тоже дом. Только не такой, как у Боднара, — плохонький, тронутый снарядами.
Хозяев нет: их на время боев выселили. В доме остались две деревянные скамьи и «Викториола» — старый проигрыватель с кучей битых пластинок.
Две все же уцелели.
Мой друг, не плачь,
Слезы портят ресницы,
Тебе не к лицу
Черный цвет…
Это поет Кэто Джапаридзе.
А за окном трещат мадьярские пулеметы, в черном небе на парашютах висят осветительные ракеты.
Мы слушаем, молчим. Нам, огрубевшим, зачерствевшим, давно не слышавшим ничего, кроме свиста снарядов и гула разрывов, нам, чей слух изголодался по нежной песне, по музыке, этот жестокий романс — какая-то радость.
Потом мы заводим другую пластинку, венгерскую. В пустом, полуразбитом доме плачет-рыдает скрипка. Мы ставим эту пластинку без конца.
Мы возьмем ее с собой в дорогу, и сотни километров будет ехать она с нами на снарядном прицепе.
— Хорошая у мадьяр музыка! — восторженно говорит Кучер. — Прямо за сердце хватает.
— Хорошая, — соглашается Валиков. — Если бы еще они не полезли на нас…
Я слышу за дверью шум. Выхожу на крыльцо. В полусвете видны фигуры Козодоева и Богомазова. Они склонились над какой-то тележкой.
— Что вы делаете?
— А это, я дрезину по дороге нашел! — бойко отвечает Козодоев. — Иду с батареи, смотрю: на насыпи дрезина валяется. Ну, я ее прикатил…
— Маленько подремонтировать, послесарить — и порядок, — добавляет Богомазов. — Будем ездить с ветерком. Знай наших!
Орудия «девятки» стоят на окраине Ужгорода, около железной дороги, НП — тоже у железной дороги. Расстояние — семь километров, так что дрезина действительно пригодится.
— Дрезина — это хорошо, — говорю я. — А скажите, Козодоев, где Таманский?
Козодоев не отвечает.
— Где Таманский? Он должен был вернуться вместе с вами…
— Отстал, значит.
— Как отстал? Где вы его оставили?
Козодоев смущенно вздыхает, говорит:
— На батарее. Приболел он что-то…
— Выпил, наверное?
— Да что там — малость…
— Вы пили, Козодоев?
— Пил. Один стакан. Мне же на дежурство…
— И Таманскому на дежурство. Вы что, не могли его удержать? Товарищ тоже…
— А если он посылал меня подальше?
— Посылал, говоришь? Тогда дело совсем плохо.
Возвращаюсь в дом, чтобы позвонить на батарею. Но меня опережает звонок Резниченко.
Он говорит, что обнаружил под брезентом спящего Таманского.
— Как проснется — бегом ко мне, — говорю я. — Так ему передайте. И пусть соберет все свои вещи…
Со скирды возвращается лейтенант Бородинский, спрашивает обычным безмятежным тоном:
— А Таманский не вернулся?
Во мне кипит злость.
— Пьян ваш Таманский. Болтался по городу, а теперь лежит под брезентом на батарее.
— Фу ты, леший, — без тени раздражения говорит Бородинский. — Кто же на скирде будет сидеть?
— Хотите — будите Валикова, хотите — пошлите Богомазова, хотите — сидите сами. Но порядок в своем взводе наведите.
— Хорошо, я поговорю с Таманским.
— Поздно, по-моему, говорить. Не первый у него срыв. Откомандирую его — и все. А там найдут, куда послать. В похоронную команду. Ему как раз…
Рано утром с заспанным, припухшим лицом является Таманский.
— Где ваш вещмешок? Пятнадцать минут на сборы.
— А куда меня, товарищ старший лейтенант?
Таманский виновато смотрит вниз, трет пальцем перебитый нос.
— Простите, так получилось. К вину не привыкши… Кто знал, что оно такое зловредное?
— А к чему привыкши? К водке привыкши? Идите и собирайте вещи.
Таманский поднимает голову, упрямо, решительно говорит:
— Как хотите наказывайте, но из «девятки» мне уходить нельзя.
— Как нельзя?
— Так. Прикажете — хоть на минное поле поползу. Хоть умру. Но только в «девятке»…
— Бросьте, Таманский. Может, скажете, что вам дорог коллектив? Вам коллектив найдут другой. Будут там ваши кореши…
— Вы что же, опять прошлым меня попрекаете?
— А вы его не оставили.
— Нет, товарищ старший лейтенант, оставил. Давно. Разве я совсем плохой? Разве приказа какого не выполнил? Да я…
— Идите, Таманский, собирать вещи. И сдайте оружие лейтенанту.
Таманский поворачивается и уходит. Я сижу один, думаю о том, что произошло. Мне, конечно, жаль Таманского: он хороший разведчик — опытный, умелый. И смелости ему ни у кого не занимать.
Но вот — прокол. И не впервой. Вспоминаю, под Никополем Таманский крепко провинился. Продал одной старухе телогрейку за самогон. А потом подослал к этой старухе своего товарища. Тот телогрейку у нее отобрал назад: «Разве вы не знаете, что военное имущество покупать нельзя?» Таманский тогда извинялся, говорил, что он «оступился, забылся», давал слово.
Нет, с Таманским надо поступить круто. Сегодня — он, завтра, почувствовав слабинку, другой…
Но у Таманского находятся защитники: лейтенант Бородинский и старший сержант Богомазов. Они долго убеждают меня, что Таманский все осознал, что он сильно переживает, что надо дать ему время исправиться. Обещают, что займутся его воспитанием.
И я неожиданно для себя соглашаюсь. Но говорю:
— Вы его воспитать не сумели. Воспитывать будут другие. Таманского посылаю в орудийный расчет сержанта Татушина. Там ему дадут перцу.
В расчете Таманскому будет тяжело. Надо всегда находиться на месте: в любое время дня и ночи может раздаться команда: «Орудие — к бою!» Батарейцы-огневики дело свое считают самым почетным, на другое не променяют. А Таманскому, который любит «вольную», бродячую — пусть и очень опасную — жизнь разведчика, это придется не по нутру.
Вызываю Таманского, сообщаю ему решение: он и рад и огорчен. Рад, что остается в «девятке», огорчен, что предстоит служить в орудийном расчете.
— Буду стараться, буду вкалывать вовсю, — обещает он. И тут же спрашивает: — А после можно опять в разведчики?
— Идите, Таманский.