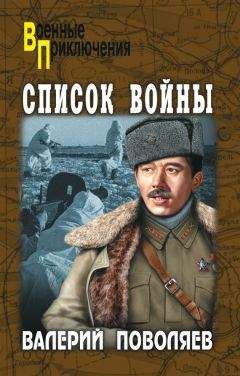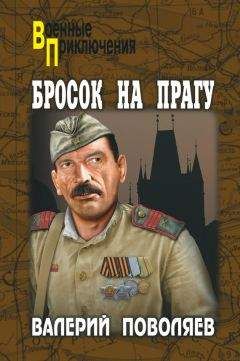Ознакомительная версия.
— Соломин!
Принесшийся на высоту ветер приволок едкую гниль, забил резким кудрявым дымом воронку — туда лёг снаряд. Погиб связист, прикрывший своей спиной наблюдательный пункт — в него всадились все осколки, а могли погибнуть все, весь окоп.
Старший лейтенант подсунулся под Артюхова, взвалил его на себя и, хрипя, корячась, потащил с высотки вниз. Когда слышал сипение очередного снаряда, останавливался, приседал и замирал в этой неудобной позе, морщился болезненно — боялся, не дай бог, осколки посекут Артюхова. Но ему везло, и Артюхову везло…
Горшков уже почти одолел спуск, когда из нашего окопа вылезли два пехотинца и поползли ему навстречу.
То, что стрелки так и не покинули свои окопы, было плохо — свидетельствовало, что никакого наступления не будет — провалилось наступление. Либо, понимая, что силёнок скоплено, в общем-то, мало, мудрое командование перенесло его на другой срок.
Старший лейтенант остановился и, поджидая пехотинцев, выбил изо рта твёрдый комок (это была слюна, смешанная с землёй), рукавом ватника стёр со лба пот. Горько, жалостливо пробормотал:
— Эх, Юра, Юра!
Было жаль Артюхова. Куда тот теперь без ноги, кому он нужен? Родине? В этом Горшков сильно сомневался: наша Родина научилась за последние пятьдесят лет отказываться от своих сыновей, верой и правдой служивших… Так было при царе, так было и после царя.
Двое шустрых потных солдат подползли к нему, молча перехватили Артюхова — тот даже не шевельнулся: в сознание он не пришёл. Горшков закинул за спину автомат, туда же сдвинул объёмистую кирзовую сумку и пополз следом за пехотинцами.
По дороге выкашлял из себя горько — в который уж раз:
— Эх, Юра, Юра!.. — И в глотку набилась горечь, и в грудь, и в сердце — всюду была сплошная горечь. Даже воздух подле этой высотки был горьким.
В окопе Артюхова ждала санинструктор-фельдшерица — угрюмая женщина с тёмными глазами и морщинистым старым ртом: по женскому полу война проходится более жестоко, чем по мужскому, уродует баб, и фельдшерица была наглядным тому примером. Артюхова уложили на плащ-палатку и бегом потащили вдоль хода сообщения в дальний угол — оттуда можно было без особой опаски перескочить в низкую, опаленную чёрным огнём лощину и по ней уйти в тыл.
Горшков проводил земляка, вздохнул зажато — больше ничем помочь Артюхову он не мог, махнул рукой обречённо — в этот красноречивый жест он вложил всю досаду, всю боль, что переполняла его, и двинулся назад, на сопочку: ни Мустафу, ни Соломина оставлять там было нельзя.
Контуженных вообще нельзя оставлять без присмотра.
Наступление не состоялось. Говорят, где-то сбоку пробовали наступать на немцев два стрелковых полка, но ничего у них не получилось — а может, вообще это было не наступление, а обычная разведка боем прошлась по нейтральному пространству с оружием в руках, может, было что-то ещё, — после этого противоборствующие армии вновь встали в долгую оборону. Тем временем высшее командование справедливо посчитало, что слишком накладно держать полновесный артиллерийский полк на бездействующем участке фронта, и перебросило 685-й артполк на юг, под Сталинград, где шли затяжные, очень тяжёлые бои и просвета не было видно, — перебросило целиком, вместе с пушками, людьми, штабными бумагами и знаменем, с дедками хозяйственной роты, обеспечивающей жизнедеятельность командиров, и лошадьми, которые таскали пушки лучше постоянно ломающихся на морозе тракторов.
Наступила зима. Лютая была та зима, каленая, редкая по своей суровости, сволочная…
На постой разведчики определились в одной из задымлённых хат степного села, окружённого глубокой кривой балкой — балка та была согнута подковой и обеими своими торцами упиралась в тощую маленькую реку, которую и ворона могла перепрыгнуть без всякого разбега. Впрочем, как слышал Мустафа, незначительная речушка эта вроде бы впадала в саму Волгу, и это обстоятельство невольно возвышало речку над всем сущим, укоренившимся в здешних местах.
На пол бросили несколько охапок соломы, хозяйка — вдовая беловолосая старуха — вместе с шустрым внуком протопила печку, и разведчики повалились на солому спать — назавтра намечалось всей группой выйти в поиск — слишком много непонятного, мутного было во фронтовой обстановке, слишком всё перемешалось — в иных местах вообще не дано было определить, где свои, а где чужие.
Штаб полка требовал от разведчиков уточнений — надо было совершенно точно знать, где проходят стыки частей, где окопались немецкие артиллеристы и сколько имеют стволов, много ли у противника танков и есть ли среди них новые, именуемое «тиграми», страшные, о которых по фронту идёт недобрая слава — русские пушки, дескать, их не берут — не берут, хотя бьют в лоб; и всё тут! А Горшков в это не верил: нет такой брони, которую бы не взяла русская пушка. Он сам видел, как полковые гаубицы с лёгкостью необыкновенной прошивали толстый крупповский металл, только жиденькая, мгновенно застывающая красная струйка несколько секунд лилась из круглого оплавленного отверстия. Так что пусть про «тигров» не рассказывают сказочки, артиллеристы его полка — мужики учёные…
Он оглядел своих сморенных, обессилевших от прожитого дня и выпитого самогона разведчиков, разметавшихся на полу, — завтра все они пойдут с ним. И Мустафа, и Охворостов Егор Сергеевич, и Игорь Довгялло, и сержант Соломин, и дядя Слава Дульнев, и Волька со смешной фамилией Подоприворота, и Амурцев со своими однопополненцами Макаровым, Шуваловым и Новаком, и двое необкатанных, пристрявших к разведчикам уже здесь, на новом месте, двое ефрейторов — белорус Кузыка и опытный охотник Торопов, попавший на фронт из северных добычливых мест, где живут остяки… Всем нашлось место в тесной деревенской хатке с земляным полом, хоть и мало места было, некоторые — Амурцев и Соломин, например, — вообще лежали, боком, теснились друг к другу, а вместились все, никто не остался на улице, на морозе.
Пол земляной, конечно, был убог, старший лейтенант давно не видел такого, утоптанного до асфальтовой твёрдости пола, но бедность, как известно, не порок. Россия всегда была бедной.
Только на узкой полоске, отгороженной занавеской, поблескивал свежей желтизной деревянный пол — там были положены доски, подогнаны друг к дружке тщательно, выскоблены ножом, — в старухины покои, за занавеску, никому из посторонних, в том числе и командиру разведчиков, ходу не было.
Пердунок, которого также перевезли сюда, на новые позиции, примостился в ногах у старшины и спал, будто взрослый мужик, с тихим храпом, — только густые лохмотья шерсти, выросшие на боках, будто у некого диковинного животного, вздымались мерно вверх и опускались, вздымались и опускались.
В висках у Горшкова что-то позванивало словно кто-то над ухом упрямо тёр железкой о железку, руки ныли — больше всего ныли костяшки пальцев, сами суставы, способ борьбы с болью был лишь один — выпить водки или самогонки.
Водки не было — тылы полка, как объясняют в таких случаях, не подтянулись, — а вот самогонка была, сноровистый Мустафа где-то выменял на трофейный эсесовский кортик трёхлитровую банку мутного, белёсого словно сильно разведённое молоко первача.
Первач оказался таким крепким, что Волька, хлебнув его — глоток, видать, был слишком большим, — чуть сознание не потерял: из ноздрей у парня даже пузыри полезли. Охворостов, узрев такое дело, отнял у Вольки кружку и рявкнул хрипло:
— Не умеешь пить — не берись!
Волька виновато повесил голову.
А Мустафа, выпив, впервые за всё время пребывания в разведке разоткровенничался:
— Я, не поверите, мужики, на одной заставе с Карацупой служил.
— С кем, с кем? — неверяще прищурил один глаз Соломин.
— С Карацупой. Никитой его звали… А отчество не помню.
— С тем самым, что ли? Который в паре с овчаркой целую армию нарушителей словил?
— С ним самым.
— Да ты у нас, брат Мустафа, оказывается, знаменитый?
Соломин присел перед Мустафой на корточки, оценивающе склонил голову на одно плечо, потом переместил её на другое.
— Знаменитый, — подтвердил Мустафа, — как телёнок, которому не досталось маминой титьки — всё молоко сожрала хозяйка.
— Хороший мужик хоть был он, твой Карацупа?
— Очень.
— Ладно, выпьем за память его, — Соломин приподнял кружку, наклонил её чуть в сторону, проверяя, есть что-нибудь внутри или всё уже кончилось. В кружке бултыхнулась жидкость. — Итак, за память…
— Ну зачем же, — Мустафа протестующе крутнул головой. — Какая память? Карацупа жив.
— Жи-ив? — вид у Соломина сделался пьяным, он недоумённо похлопал глазами. — Он ведь такой знаменитый, что я думал — давно уже умер.
— Живой, здоровый и вообще всех нас переживёт. Слава Аллаху!
— Как же ты, такой праведный, со знаменитостями вместе служил, хлеб-соль из одной тарелки пальцами брал, потом до лагеря докатился? А, Мустафа?
Ознакомительная версия.