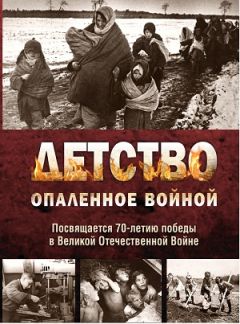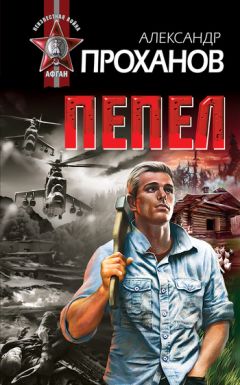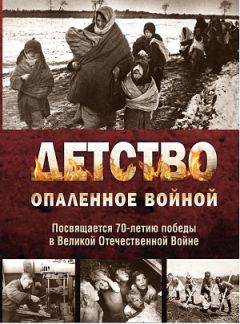— Привал! — приказал лейтенант. — Отдых пятнадцать минут.
Сели, сбросили тюки, отложили оружие. Достали фляги, стали пить, делая аккуратные глотки. Фляга Ковшова была пуста, и он жадно, с завистью смотрел, как запрокидывают солдаты лица, сосут губами металлическое горло фляги, как капли сбегают по красным, опаленным солнцем щекам. Лейтенант делал глоток, ополаскивал полость рта и затем проглатывал воду. Ковшов с ненавистью смотрел на скуластое татарское лицо лейтенанта, его рыжие рысьи глаза.
Горы, обесцвеченные зноем, уходили во все стороны мертвенно, тускло, не оставляя надежды на иной ландшафт, на зеленую долину, блеск реки, тенистые деревья. Ковшову казалось, что их забросили на безжизненную планету, и от нее бесконечно далеко его милый дом, любимая мама, их стеклянный буфет, в котором среди тарелок и блюд хранится фарфоровая чашка с красно-золотым петухом, подаренная ему в детстве, единственная сохранившаяся от большого сервиза.
— Подъем! — приказал лейтенант. Упруго вскочил, навьючил мешок, подхватил автомат и стал легко сбегать по тропинке в рыжую низину. Солдаты неохотно поднимались, брали вещмешки, гранатометы, автоматы, собираясь следовать за своим командиром.
Лейтенант удалялся, утягиваемый под гору, тормозил своими крепкими кривыми ногами. Под ним вдруг бледно полыхнуло. Он подскочил и, казалось, замер на дымном пьедестале, а потом рухнул, завалился на бок, и тонкий мучительный крик долетел до солдат. Лейтенант лежал на боку, мешок мешал ему повернуться, и над ним вяло летел, поднимаясь на склон, жидкий дым.
— Назад! Отставить! — Сержант остановил цепь солдат, боясь ступить на тропу.
Все сгрудились, замерли, пугаясь рыжего спуска, мучнистой розоватой тропинки и жалобного, детского крика лейтенанта, который дергался под мешком, не в силах его свалить.
Ковшов с ужасом понимал, что случилось. Видел, что одна нога лейтенанта — та самая, которой он его бил, — оторванная лежит сбоку, а другая, неестественно длинная, уродливо заломлена в сторону с вывернутым башмаком.
— Отставить! — повторил сержант. — Минное поле! Все подорвемся!
Лейтенант истекал кровью, дергался, тонко кричал, и в его крике слышалось протяжное: «Мама!» И этот жалобный детский крик, и беспомощный зов воздействовали на Ковшова внезапным, необъяснимым образом. Его душа приподнялась над землей, зрение обострилось, и он с высоты своим зорким нечеловеческим зрением увидел минное поле, все вживленные в землю мины. Это были две «итальянки», ребристые, похожие на огромные георгины, две плоские немецкие мины, чуть присыпанные пылью, самодельный фугас из орудийного патрона с контактной дощечкой взрывателя и несколько «растяжек», светящихся, как драгоценные паутинки. Мины открылись ему в его ясновидении, и он шагнул на тропу.
— Я их вижу, — отмахнулся он от сержанта. Ступая на цыпочки, как на мокром месте, он обогнул «итальянку», прошел мимо плоской, как блин, «немки», перешагнул медную струнку растяжки и оказался около лейтенанта. Тот дергал обрубками ног, брызгал кровью, его рот был открыт, издавал непрерывное, из одних гласных, стенание, в котором слышалось растянутое на бесконечную длину «мама». Ковшов освободил плечи лейтенанта от лямок, отвалил мешок. Подобрал автомат и оторванную ногу, взвалил лейтенанта на спину и понес, чувствуя, как горячая кровь заливает ему спину. Пронес лейтенанта вверх по горе, не чувствуя его веса, и, донеся до солдат, рухнул, теряя сознание. Пришел в себя оттого, что сержант лил ему в губы воду. Лейтенант, усыпленный уколом промедола, беззвучно чмокал губами; лежала рядом оторванная нога в ботинке, и санинструктор бинтовал другую, висящую на жилах ногу. Связист вызывал по рации вертолет, и горы в раскаленном тумане кружили свою бесконечную, до горизонта, карусель…
Суздальцев понимал, что он, его жизнь, его появление и существование на земле были связаны с неизвестной войной. Она брала начало в его жизни, как невидимый зародыш, незримо переносимая из года в год, пока вдруг, через годы и десятилетии не вырвется на свет.
Он был беремен этой войной, вынашивал ее в себе, был злосчастным родоначальником этой войны, на которой погибнет множество людей, будет разрушено множество городов, и сам он будет убит. И чтобы избавить мир от этой войны, он должен себя уничтожить. Здесь, немедленно, в настоящем, и убив себя, он убьет зародыш войны.
Эта мысль показалась ему праведной и единственно возможной. Убив себя, он убьет войну.
Вот он снимет с гвоздя двустволку, извлечет картонный, с латунным донцем патрон. Вгонит в ствол. Замкнет и взведет курок. Сядет на кровать, поставив приклад на пол, уперев ствол в подбородок. Ощупает пальцем спусковой крючок. Нажмет спуск, в голове полыхнет черно-красный бесшумный шар, и его, Суздальцева, не будет. И не будет войны, о ней никто не узнает, ее не занесут в анналы истории, и все, кто должен на ней погибнуть, останутся живы.
Но нет, это было невозможно. Его молодая жизнь была так сильна в нем, жажда жить, любить, познавать была необорима, что мысль прервать эту жизнь показалась ему дикой — из того же наваждения, что и неведомая, ему не принадлежащая война.
Он чувствовал, какая тонкая пленка отделяет эту крохотную каморку, сивую шкурку белки и красное стеганое одеяло от бестелесной пустоты, в которую вырвется его душа после смерти, и как дорога, бесценна эта тончайшая пленка жизни.
Вдруг подумал, что по соседству, в слабо освещенной избе, горит лампадка, стоит на коленях Николай Иванович, а из-под белой простыни виднеется рогатая козья голова с неподвижными остекленелыми глазами.
Лег под одеяло, видя, как в слабом металлическом излучении лежат исписанные чьей-то рукою листки.
Утром Петр сидел у оконца, глядя, как переливается разноцветной пыльцой воздух, и березы возносят белые от инея вершины, как сияющие фонтаны. Он видел, как в дальнем углу соседского огорода Николай Иванович долбит ломом, выгребает на снег черную землю, углубляется в яму сначала по колено, потом по пояс. Он трудился, уставал, вылезал из ямы, отирая на лбу пот.
— Николай-то Иванович в козе души не чаял, — вздыхала тетя Поля. — Он от людей одни насмешки терпел. А коза его любила. Он ей книжки читал, песни пел. Бедный Николай Иванович.
Закончив копать, сосед вернулся в избу, и некоторое время его не было видно. Потом дверь на крыльцо приоткрылась, и в щель выглянуло испуганное, затравленное лицо Николая Ивановича. Он убедился, что улица пуста, шире приоткрыл дверь и, пятясь по ступенькам, стал вытаскивать из сеней дровяные санки с загнутыми полозьями. На санках лежал куль, накрытый лоскутным одеялом, из-под которого виднелись козьи рога и заостренная, с розовым носом, морда. Николай Иванович с трудом сволок с крыльца сани, впрягся в них и повез в огород. Было заметно, как трудно ему идти, как подкашиваются его ноги в валенках. Край одеяла волочился по снегу, и были видны вытянутые козьи ноги с копытцами и белая, костлявая голова с рогами. Николай Иванович подкатил сани к яме. Постоял, бессильно опустив руки. Затем неловко стал толкать мертвую козу, спихивая ее в яму.
Куль перевалился, был виден торчащий из ямы край пестрого одеяла. Николай Иванович встал на колени, нагнулся над ямой и стал накрывать козу одеялом. А потом, поднявшись, стал закидывать козью могилу землей. Сровнял, набросал сверху горку снега и стоял среди огорода. Березы на горе вздымали в синеву сияющие фонтаны, и летела, кружила стая кладбищенских ворон.
Николай Иванович постоял, повернулся и заторопился к дому, кособокий, прихрамывающий, с несчастным небритым лицом. Поднялся на крыльцо и затворился в доме.
— Несчастный он, Николай Иванович, — пожалела его тетя Поля. — А какой умный был, все книжки читал. Да Бог ум отнял.
Суздальцев совсем уж было собрался отправиться в лес, насладиться этой туманной синевой, белым размытым солнцем и снегами, от которых шло ровное, до горизонта сверканье. Но перед домом появились люди — мужчина и женщина, — переговаривались, переглядывались, указывали по сторонам, словно отыскивали нужный дом. И Суздальцев узнал в женщине Шурочку Агапову, подругу невесты, с которой много раз встречался в студенческих компаниях. В меховой шубке, беличьей шапочке, в красных рейтузах и маленьких милых валенках, она увидела сквозь стекло Суздальцева, захлопала в ладоши, послала ему воздушный поцелуй. Мужчина был высокий, в меховой куртке и вязаной лыжной шапочке. На его плече лежала пара связанных лыж, за спиной бугрился высокий нарядный рюкзак с какими-то цветными клеймами. Он тоже увидел Суздальцева и улыбнулся. Через минуту они уже были в избе, и Шурочка, прикладывая маленькие нежные пальцы к печи, радостно говорила:
— А мы спрашиваем у людей, где тут живет лесник-отшельник, такой угрюмый нелюдимый старик с длиннющей бородой. Познакомьтесь, — она обращалась к Суздальцеву и тете Поле, — это мой муж Константин Павлович Скрынников. Известный архитектор-футуролог. Надеюсь, вы нам рады?