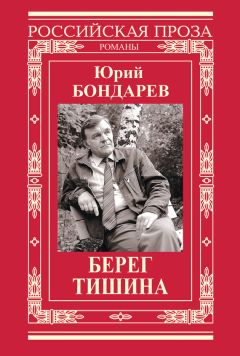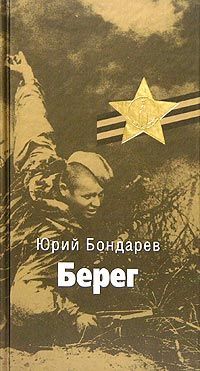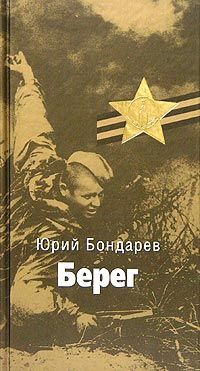– И много у вас подобных ценностей?
– Всем хватит, товарищ лейтенант, вагон и маленькая тележка! Возьмите вот эти плоские, на руке глядеться будут. И стрелка секундная есть.
– Ничего немецкого не беру, – суховато ответил Княжко. – Насколько мне известно, Меженин, это предпочитают делать похоронные команды.
– Новенькие, товарищ лейтенант, как из магазина. Не с руки сняты!
– Не имеет значения.
– Ясны-ыть, – протянул Меженин неопределенно. – Дело полюбовное, кому попа, а кому попадью. Наш лейтенант тоже с принципами. Засек!
Сощуриваясь, он завел, послушал часики и, разочарованный, бросил их на стол, они звякнули меж груды коробочек.
– Ну и прекрасно, – Княжко повернулся к Никитину. – Ты позавтракал, вижу? Пройдемся к орудиям. День сегодня отличный. Совсем летний.
– Просто великолепный день, – согласился Никитин и, надевая выстиранную вчера пилотку, предупредил Меженина: – Если из штаба будут звонить, сообщить немедленно.
– Не аристократично, но неплохо придумано, – сказал перед дверью Княжко, кивнув в угол столовой, где усердный Ушатиков на корточках кормил кошку из крышки немецкого котелка, старательно соскребывая с солдатских тарелок остатки пшенной каши.
Был час полного утра, тихие улочки провинциального немецкого городка были по одной стороне горячи, знойны, затоплены солнцем, по другой стороне лежала тень, еще прохладная, еще по-весеннему чуть сыроватая, и здесь, в прохладном воздухе, был особенно густо разлит сладковатый аромат ранней сирени, белой, пышной, отяжеленно свисавшей над железными оградами. И этот текущий по тротуарам дурманный дачный запах уже смешивался с неожиданными для покойных улочек дымками солдатских кухонь, бензиново-пыльным запахом машин, стоявших цепочкой вдоль обочин подсохших мостовых.
Мирный городок этот давно проснулся, ярко краснел черепицей, золотились стволы сосен, раздавались начальственные голоса старшин во дворах, занятых полковыми хозяйствами, гремели поварские черпаки о нутро отмываемых после завтрака котлов, кое-где в глубине окраинных садов отдаленно завывали моторы тыловых машин. На площади возле кирхи и вокруг на улочках появлялись группами солдаты, совсем по теплу, без шинелей, без ватников, ходили посредине мостовых, с интересом разглядывая чужие вывески пансионов под голландскими фонариками, женские шиньоны в зеркальных витринах парикмахерских, опущенные жалюзи закрытых пивных баров, уютно отдыхая, покуривали, сидели на каменных плитах, гладких ступенях кирхи, грелись на солнцепеке, переговариваясь, задирали то и дело головы к острой готической высоте ее кровли, купающейся в теплой голубизне неба.
– Веселый городок, – сказал Княжко, чаще, чем Никитин, козыряя встречным солдатам. – Уютно жили. И вообще – прекрасное время, май!
Никитин спросил:
– Но где бюргеры, скажи ты мне? В подвалах сидят? Попрятались все? Или сбежали, как мои хозяева?
Это был, по всей видимости, типичный курортный городок, чистенький, удобный, вымытый, с множеством маленьких магазинчиков, ресторанчиков, баров и пансионов, куда на лето выезжали, наверное, отдыхать берлинцы, однако сейчас немецкая речь нигде не слышалась тут, и хотя солдаты, заняв дома, жили в квартирах вместе с хозяевами, повсюду на окнах были еще задернуты шторы, и лишь порой края их осторожно шевелились, когда близкий мотор машины или дребезжание кухни, взрыв хохота или звуки солдатского говора возникали, раздавались на улице.
– Думаю, немцы уже перестали надеяться, что мифическая армия Венка спасет Берлин. И все же чего-то ждут в страхе, – ответил Княжко. – По крайней мере, хозяева моего дома перепуганы насмерть, еле дышат, ходят на цыпочках, говорят шепотом «Гитлер капут» и мелким бесом заискивают перед солдатами. И юлят передо мной, как перед генералом. Даже пытаются приносить какую-то жуткую бурду «кафе» в постель. Наверняка убеждены, что переживают нашествие Чингисхана. Но немцы есть немцы. Крафт! Крафт! Преклонение перед силой.
– А мне любопытно, куда смылись хозяева моего дома, – проговорил Никитин. – Все оставлено – и никого.
– Ну, вот тебе представитель арийской расы, легок на помине, – сказал Княжко, морщась. – И, кажется, навеселе.
Навстречу, в узоре тени железной ограды, за которой неудержимо, буйно, снежно цвела сирень, продвигался, непрочно ступая по каменным плитам, пожилой краснолицый немец в черной паре – он приостановился вдруг, издали приподнял шляпу, обнажил малиновую широкую лысину и так, не надевая помятую шляпу, начал кланяться покорно и подобострастно, выговаривая заплетающимся языком:
– Guten Morgen, Herren Offiziere, guten Morgen… Рус карашо, Гитлер капут… аллес… Сталин гут, карашо, Гитлер плехо, капут, – повторял он с какой-то заведенной пьяной нелепостью заученный набор слов, пока Никитин и Княжко не поравнялись с ним, потом красное его лицо заискивающе задрожало крупными своими морщинами. – Entschuldigen sie, bitte, Herren Offiziere, geben sie mir, bitte, ein Stuck Zigerette.[1] Рус карашо сигаретте… Водка гут…
– У тебя есть? – строго спросил Никитина некурящий Княжко. – Дай ему. Где он набрался, этот ариец? По-моему, славяне показали широту души. Наверняка.
– Битте, – Никитин раскрыл пачку трофейных сигарет, и немец, все не надевая шляпу, тихонечко кончиками ногтей вытянул одну, застонал и сладострастно понюхал ее; тогда Никитин сказал: – Возьмите несколько штук… А, черт, как это по-немецки? Bitte, nehmen Sie noch Zigaretten, bitte, bitte![2]
– О! Nur zwei Zigaretten, danke schon, danke schon[3], – заговорил благодарно немец и так же аккуратненько взял вторую сигарету, рассмотрел пачку и воскликнул с притворным недоумением: – О, «Juno», deutsche Zigaretten! Danke schon, entschuldigen Sie, bitte, Herr Offizier[4], Гитлер капут! Auf Wiedersehen!.. Рус карашо!
И, держа над потной лысиной шляпу, немец долго стоял возле ограды, оборачивался, провожая Никитина и Княжко улыбкой вставных зубов.
– Рус карашо, водка гут. Вот, оказывается, что, – сказал Княжко, на ходу гибким телом гимнаста подтянулся, сорвал за оградой веточку сирени, вдохнул ее дошедший до Никитина холодноватый росистый запах и тотчас сурово сдвинул атласные брови. – Я вот о чем хотел поговорить, Вадим. Еще неизвестно, зачем нас отвели в Кенигсдорф. Думаю – не так просто. А после Берлина в батарее началась чепуха. Как будто война кончилась, и поголовно обалдели все. Из штаба никаких приказов. Свободного времени полно. Сегодня ночью вышел проверить часового, а его, миленького, на посту нет – оказывается, спит на диване мирным сном младенца и пузыри пускает. Это уже – из ряда вон! Если так – завтра же начну заниматься с батареей усиленной строевой. Хоть чем-нибудь встряхнуть, хоть этим вернуть славян на грешную землю. Иначе превратимся мы тут в умиленных телят.
– Да, – сказал Никитин. – В моем взводе тоже что-то такое ерундовое. Но ты знаешь, я сам не могу отделаться от чувства, что все кончилось…
Они замолчали. По середине мостовой шла группа солдат-саперов, донесся смех, перебористые звуки губной гармошки.
– Твой Меженин, по-моему, занялся одними трофеями, – проговорил Княжко и, переложив веточку сирени из правой руки в левую, ответил на приветствия поравнявшихся солдат, один из них, веселый, хитроглазый, бедово играл «Катюшу» на губной гармошке. – И он давит на всех. Ты это замечаешь?
– Замечаю, но он прекрасный командир орудия.
– Ты либерал – адвокат девятнадцатого века, – сказал Княжко. – Не вижу в этом разумной полезности. Ты командир взвода, и ты должен влиять на солдат, пока не все кончилось…
– Неужели ты думаешь, что еще не скоро кончится?
От закрытого бара на углу под старой вывеской, где был изображен медведь с пенившейся в лапе кружкой пива, они свернули на боковую улочку, всю здесь заставленную машинами артиллерийских тылов, фурами и повозками медсанбата, сплошь заросшую вдоль тротуаров старыми соснами, прошли сквозь их желтую тень, и в конце улочки, будто крыши раздвинулись впереди, обоих ослепила глубинная прозрачность голубого волнистого воздуха над полями, погожего голубого неба с легкими по высоте дымами весенних облаков, засияла солнечная даль молодой травы, разрезанная вытянутым за окраиной городка длинным зеркалом озера в песчаных, как курортные пляжи, берегах, – всюду, до горизонта, стоял теплый майский полдень.
– Я думаю, – сказал задумчиво Княжко, – что мы не простим себе, если окажемся в бессильном положении.
3
В этом отдаленном от передовой тишайшем городке еще соблюдалась светомаскировка, и поздним вечером сидели с наглухо задернутыми шторами в большой комнате первого этажа, напоминавшей не то кабинет, не то библиотеку, с веселым азартом пили баварское пиво, раздобытое старшиной на берлинских складах, нещадно курили безвкусные трофейные сигареты и вели нескончаемые разговоры.
Было тут шумно, по-домашнему непривычно светился над столом стеклянный зеленый абажур керосиновой лампы, плыл в бесконечном течении сигаретного дыма, как в замутненной воде, покачивался фосфорической медузой среди поблескивающих корешков старинных книг в окружении оленьих рогов и темноватых картин, на которых сумрачными скалами возвышались под тучи очертания средневековых замков.