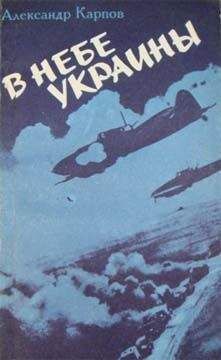— И покажу! Хоть завтра, — не смутился Зенков. — Завтра намечен контрольный полет в зону после отладки мотора. Полетишь со мной — покажу.
— Ладно… Доживем до завтра, видно будет, — неопределенно ответил Яшин.
На другой день Зенков разыскал Яшина, уже собравшись в контрольный полет. Тот попытался отмахнуться, сказал, что не одет.
Вениамин успокоил:
— Да чепуха, здесь рядом, всего на полчаса, слетаешь в шинели.
Они поднялись и, выполнив в зоне задание для проверки работы моторов на разных режимах, развернулись к себе, в направлении аэродрома. И тут Веня сказал Яшину, — тот сидел впереди на штурманском месте в Ф-1:
— Сейчас покажу тебе, как летают штурмовики.
С этими словами Зенков снизил самолет на высоту деревьев и пошел огибать все неровности местности: над лесом летел так, чтобы только не зацепить за макушки деревьев, кончался лес — летел низко над пашней. Крался оврагами, взбирался на склоны холмов, огибая их профиль. Словом, прятался в складках местности, как это практикуют при своих полетах штурмовики, добиваясь внезапности появления над неприятелем. И сердце при этом у Вениамина билось восторженно; он ощущал всем существом своим четырехсоткилометровую скорость в нескольких метрах от земли захватывающе реально, во всем великолепии бешено мчащегося на него ландшафта. И тут Веню можно было понять, ибо ощущение бреющего полета поистине острейшее. Пожалуй, никогда летчик не чувствует себя таким окрыленным, как в бреющем полете. Он слит со своей машиной воедино. В руках, сжимающих чуткий штурвал, он ощущает послушное малейшей воле дыхание рулей. Словом, кто хоть раз побывал в бреющем полете, тот не забудет этого никогда.
Но впечатление, которое получил Яшин, все же оказалось из ряда вон выходящим.
Все шло хорошо, и Веня пылал гордостью. Деревушки, перелески, овраги, не успев появиться впереди, шмыгали самолету под брюхо, как в испуге. Мелькнули последние кустарники, и пошли пойменные луга. Там, впереди, аэродром, а пока вокруг зеленая гладь.
И тут случилось непредвиденное. Несметная стая грачей взмыла как раз перед самолетом. И ничего, ничего нельзя было уже поделать. В резерве не оказалось секунды, необходимой на этот крайний случай.
В самолет будто кто швырнул ковш угольных комьев. Они загрохотали по крыльям, как по крыше. И словно от взрыва впереди, вдребезги разлетелось стекло передней кабины. Веня ужаснулся: "Ведь там Яшин!"
В следующую секунду, еще не поняв, что с самолетом, Зенков увидел сбоку от своего кресла Яшина. Шинель в крови, вся в птичьих перьях. Штурман стоял возле кресла, не в состоянии произнести ни звука: его раскрытый широко рот был плотно забит перьями.
Оказывается, Яшин, заметив птиц, только успел раскрыть рот, намереваясь предупредить Веню, как птицы шарахнули по самолету. Закрыть рот без посторонней помощи он уже был не в состоянии.
Грачи пробили самолет в нескольких местах, но двигателям, крыльям и рулям существенных повреждений не причинили. Лишь переднему стеклу штурмана, будто нарочно, досталось более всего.
Посадка, тем не менее, была выполнена Зенковым наилучшим образом. На старте никому не бросились в глаза пробоины в самолете.
Зенков в хмуром настроении подрулил на стоянку. Рулил быстро, чтоб не заметили его самолет в птичьем оперении: не очень-то хотелось попадать на язык весельчакам.
Другое дело свои механики: как родные, всегда поймут, Жестоко не осудят. Здесь, как он надеялся, так и вышло: техники быстро принялись за дело, и к ночи самолет был готов отправиться на бомбежку.
В ночь Зенков отправился с визитом к немцам под Смоленск. Как и вокруг Вязьмы, там была создана противником особенно плотная зенитная защита. Считалось: тот из бомбардировщиков, кто побывал над Вязьмой или Смоленском и с честью выполнил задание — уложил бомбы в намеченную цель, — мог считать себя воздушным воином, побывавшим в настоящем деле, требующем железной выдержки и завидной отваги.
У Зенкова было уже немало полетов на Смоленск и Вязьму, занесенных в летную книжку, и вот он снова со штурманом Иваном Старжинским и вторым пилотом Иваном Долматовым отправился на своем Б-25 бомбить товарную станцию Смоленска.
К этому времени у бомбардировщиков АДД имелся уже немалый опыт. В каждом полете они применяли разные хитрости, чтобы сбить с толку вражескую оборону Делали зигзаги, чтобы обмануть зенитчиков и прожектористов, создавая видимость, будто проходят мимо, не интересуясь Смоленском. Так было и в этом полете.
Самолет Зенкова прешел сперва несколько стороной, а потом развернулся и выскочил с тыла на скопление эшелонов.
Настал самый ответственный момент — летчики АДД называли его между собой "минутой страха", — когда Старжинский процедил:
— Командир, идем точно на цель, держи прямую! К этому времени прожектористы все же изловчились скрестить на них свои «штыки». Теперь, когда Старжинский велел замереть, активность летчика была парализована. Здесь Вене оставалось стиснуть зубы и ждать. Попа дут — не попадут?
Нет, недаром боевую прямую при выходе на цель летчики называли "минутой страха". Страх обострялся вынужденным бездействием до мгновения, когда будут сброшены бомбы.
Вениамину казалось, что самолет его напоминает глупую бабочку, которая, не в силах оторваться от пламени свечи, так и стремится опалить свои крылья. Летчик, весь съежившись и как бы стремясь уменьшиться в размерах, почти не дыша, сжимал в руках штурвал, не отрывая глаз от лампочек сброса бомб, трепетно выжидая, когда они вспыхнут, ждал этого мгновенья как величайшего блага, чтоб сразу нырнуть вниз, выскочить из света прожекторов, вывести самолет из фонтанирующих вокруг снарядных трасс, из беснующихся клубов разрывов. Все это было так близко, что ноздри ощущали запах пороха, а спина самолета — дробную сыпь осколков.
Как же медленно тянулись здесь секунды!..
Наконец настал желанный миг, все на борту почувствовали: бомбы отделились от самолета. Веня дал резкий разворот вниз, а Иван Долматов, манипулируя крагой перчатки у самого Вениного лица, все старался загородить прожекторный свет, чтоб летчику легче было пилотировать.
Сергей Алексеевич Ульяновский начал войну с первого ее дня майором, командуя бомбардировочным полком.
В те первые дни войны, сколько раз увлекая свой полк В атаку, он видел с высоты полета, как наползает с запада огнедышащая лава. Она наползала по всем дорогам черными нескончаемыми ручьями, окутанная мраком взвешенного на сотни метров вверх пепла, все пожирающая и испепеляющая на своем пути. Он кричал тогда по радио: "За мной, серией, все вместе по черному врагу! Открыть бомболюки! За Родину!.." И, неистово вцепляясь в штурвал, командовал: "Плотнее строй!" А сердце готово было разорваться на куски, когда видел все еще жмущуюся к нему, уже пылающую, подожженную врагом машину товарища… И в трескотне наушников слышался ему знакомый голос: "Прощай, командир! Сережа!.."
И потом в немногие и мучительные часы сна он стонал, скрежетал зубами и вскрикивал: "Полк, за мной! Серией! Открыть бомболюки!.." Ему все снилась черная дьявольская лава…
Но вот к исходу третьей недели войны постигла и самого командира полка тяжкая доля. День тринадцатого июля едва не стал для него последним.
Его самолет был подожжен вражескими истребителями, он все делал, чтобы сбить пламя, но уже перед землей, когда огонь лизнул лицо, сбросил фонарь, приподнялся с сиденья и рванул на груди кольцо. И к счастью, при раскрытии купол парашюта выдержал огромный динамический рывок.
Глаза его заплыли от ожогов, и он не мог видеть людей, голоса которых возникли, как в тумане. Сперва сознание уползало от него, потом он снова услышал голоса и наконец понял, что говорят о нем.
— Надо бы его похоронить по-христнански, — проговорил старик, вздыхая. Другой — молодой голос — возразил:
— Что вы, диду! Нельзя… Он еще живой!
— И вправду, дышит. А обгорел-то как, сердешный! Все одно не жилец.
Второй голос, голос явно мальчика, опять запротестовал:
— Как это? Не грех вам, диду? Он ведь живой, наш. красный летчик. Помочь бы, спрятать его?..
Дед на это лишь раскряхтелся, стал кашлять. Но тут послышался женский голос.
Ульяновского куда-то понесли, он то и дело терял сознание. Когда очнулся, почувствовал запах сена.
Он оказался в сарае у колхозницы Багрицевой и ее пятнадцатилетнего сына.
Врача в деревне не было, и никто не мог определить степень ожогов у больного. Особенно сильно пострадало лицо: все в волдырях, заплывшее, глаз не было видно. С рук пришлось срезать перчатки вместе с кожей. С такими же муками с него снимали и сапоги. Со слезами на глазах женщина и ее сын делали это с величайшей осторожностью, стараясь хоть как-то уменьшить страдания несчастного, но ожоги оказались так обширны, что в течение нескольких суток летчик был на грани смерти.