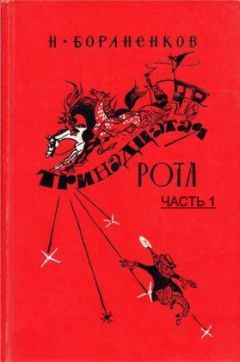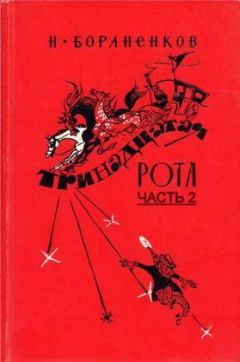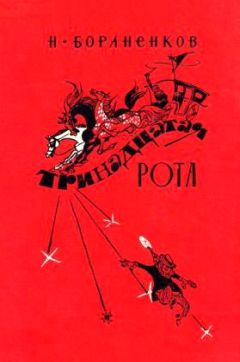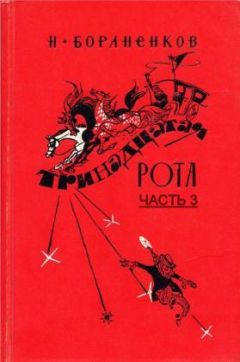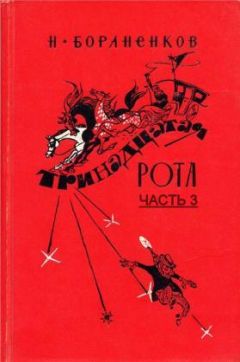— Эта сатанинская овца вся в блудную матку пошла, — говорил он, качаясь и обнимая Трущобина. — Та шельма по кустам блуждала, в хмызу окотилась, и эта точь такая же негодяйка. А кто мне эту чертову породу всучил? Кто? Лес-ник! Он дикого козла с овцой скрестил. И что вышло? Что? Ему потеха, а мне хошь плачь. Шестую ночь вот ищу. Да что искать. Волк слопал. Сожрал, подлюга. Ах какая шправная овца была! Мясцо бы с лучком есть не поесть. Бабка как чувствовала, твердила: "Зарежь, дед, зарежь. Сиганет куда-нибудь". И вот сиганула. Да ты сиди, милок. Сиди не заботьсь. Я вас, душенька, в точности вывезу, куда след… Свят икона, такой дороженьки вам и зрить не довелось. Не дорога, прошпект. Вам куда надоть? На Гомель? Могилев? Аль в обрат на Мозырь?
— На Могилев, дедок, на Могилев!
— Ге-е, Могилев! Какая там дорога. Печенку вышибать. Дед Калина выведет вас, душенька, на такую гладь, что закачаешься. Завтра будете под Могилевом. Швят икона.
Временами дед умолкал, рассматривал впотьмах местность, потом складывал руки горшком, кричал: "Эге-гей! Чуток правей возьми. Правей!" Или: "Свертай влево! Влево, говорят, свертай".
Часа через два колонна, упершись в ольшаник, остановилась. Дед Калина обругал головных верховых и самолично пошел посмотреть, в чем дело, в каком месте не туда повернули. Он так отчитал за прозев Трущобина, что тот, неотступно шедший следом, оторопев, остановился. И это погубило все. Дед Калина вместе с узлом соли, тремя пачками махорки и карабином Трущобина бесследно исчез, оставив обоз наедине с грозой, ночью и непролазным болотом.
— А всему виной ваш Железный крест, — отозвался запертый вместо карцера в карету кучер Прохор.
— Во-первых, арестованным разговор не разрешается, — заметил Гуляйбабка, а во-вторых, при чем здесь Железный крест? Его ведь просили, как человека. Соль, табак ему дали.
— А при том, сударь, что я еще дайче видел, какими глазами он на вашу грудь глянул. Тогда ж еще подумал:
"Ждать от этого старого хитреца доброго венца равно тому, что надеяться на молоко с березы". Хотел сказать вам об этом, но не стал. Арестованным вступать в разговоры ведь не дозволено.
— Один — ноль в вашу пользу, — сказал Гуляйбабка, снимая с фрака Железный крест.
— И еще бы флаг с кареты сняли, — напутствовал Прохор. — Ни к чему с ним в лесу, да и жалко фюрера. Обтреплется, как портянка.
Наотмашь, выхватив из тьмы болотные пеньки, сверкнула молния. Грянул с треском гром. Крупные капли дождя с шумом забарабанили по крыше, козырьку кареты. Оравшие во всю глотку лягушки умолкли.
— Лезайте ко мне, сударь, — позвал Прохор, глядя в оконце. При вспышке молнии он был иссиня-бледным. — Какой вам толк мокнуть под козырьком? И кстати, нет ли у вас завалящего сухарика? С прошлой ночи мне что-то все снятся жареные гуси да пироги с куриными потрохами.
— Сухарь найдется, но дать не могу. Вы заключенный.
— Вы, мой сударь, явно не в ладах с законами, — заметил мягко Прохор. Заключенный имеет право на получение передачи.
— Ах да, я позабыл. В таком случае я могу вам передать сухарь. Прошу! Но на большее не рассчитывайте. Помиловать вас может только президент. Вы же от прошения о помиловании отказались.
— Моя вина настолько очевидна, что просить снисхождения было бы просто нахальством. Пенять надо не на строгость, а на самого себя. Что отмочил, то и получил. Что испаряется, то и возвращается.
Переждав раскаты грома, Гуляйбабка спросил:
— А скажите, Прохор Силыч, где вы научились этой философии?
— Я возил районных судей, прокуроров, лекторов… А с кем поведешься, от того и наберешься.
Шумя брезентовой накидкой, подошел Трущобин, безнадежно развел руками:
— Ни вправо, ни влево… Ни взад, ни вперед. Ну и завел, шельмец. Ох, и завел!
— Что завел, это я вижу и сам, — сказал Гуляйбабка. — Ты скажи-ка лучше, где твой карабин?
— Гм-м. Да видишь ли… Я подумал… Но так вышло… — Трущобин, замявшись, умолк.
— Говори, говори. Чего же?
— Сперли. Из-под носа унес.
— Кто унес? Да говори же!
— Да этот Калина… Калина, чтоб ему. Разжалобил, расплакался: "Овца, овечка пропала. Ах да ох! Какое б мясцо было с перцем".
Гуляйбабка накинул на голову капюшон плаща, вздохнул:
— Эх ты, лапоть с перцем! Как же ты мог допустить такое ротозейство!
Втянув голову в плечи, чавкая мокрыми сапогами, Трущобин в растерянности потоптался на месте, вздохнул:
— Да… Опростоволосился я, нечего сказать. И что теперь делать, сам не пойму.
— Понятно что, — отозвался Гуляйбабка. — Благодарить Калину и ждать до утра. Чую, назревает весьма трогательная драма.
27. ЛЕГЕНДАРНАЯ КАРЕТА ПОД ГРАДОМ ПАРТИЗАНСКИХ ПУЛЬ
Предвидение Гуляйбабки насчет "назревания весьма трогательной драмы" сбылось. Еще спали в болоте лягушки, еще сонно потягивалось обнаженное после грозы небо, еще солдаты БЕИПСА вовсю задавали храпака и видели сладкие сны о благополучном выходе из болота, куда их завел дед Калина, а в хвосте колонны уже загрохотали выстрелы, взрывы гранат и послышалось нарастающее «ура» идущих в атаку.
В карете проснулся Прохор. Учуяв неладное, отчаянно застучал кулаками в стенку, где под козырьком тихо похрапывал Гуляйбабка:
— Сударь! Сударь! Да проснитесь же! Очнитесь. Похоже, на нас напали.
— Не только похоже, а так и есть. На нас идут в атаку сразу с трех сторон, с чем вас и поздравляю.
— Ах, господи! Какое может быть поздравленье! Дайте мне лучше винтовку. Из окна кареты чертовски удобно стрелять.
— Горошиной дуб не сшибешь. Лучше послушайте, как здорово они атакуют, какая гармония крика. Я давно уже не слыхал такого дружного «ура».
— Оставьте, сударь, эту гармонию себе, а мне дайте на худой конец хоть гранату. Я все же не теряю надежды вернуться к Матрене.
— Гранат нет. Есть вот лимон, — протянул в оконце пахнущий комок Гуляйбабка. — Пососите. Бывает, что действует лучше спелой гранаты.
— О боже! Какая невозмутимая мамаша вас родила? — воскликнул Прохор. — Да отдайте же хоть какую-либо команду.
— Излишние команды в бою приносят только путаницу. Каждый из нас давно уже знает, что делать в подобной ситуации, и я уверен, что победа будет за нами.
— Какая победа? Окреститесь. Нас горстка, а их!.. Разве не слышите, со всех сторон уже окружили.
— Вы ошибаетесь, Прохор Силыч. Пока не совсем. Они оставили нам для спасения ту сторону, где поглубже болото. Видать, командир у них ушлый.
Кучер, погремев ящиками, банками, чуть слышно забормотал:
— Мне, гражданскому человеку, впервой попавшему в такую катавасию, ничего не остается делать, как приложиться к фляжке, которую я тут случайно нащупал. Правда, в ней не наберется и доброй кружки, но на безмясье и сова — индейка.
Атакующие подступали все ближе. Теперь уже стало слышно, как трещит под их ногами валежник, кляцают затворы винтовок и как подаются команды то по цепи, то в разных местах.
Подбежал Волович:
— Иван Алексеич! Я отвечаю за вас годовой…
— Спокойствие! Без паники… В панике оставить голову легче, чем в гостях перчатки. Садитесь рядком и послушаем вместе, как шустро командуют младшие командиры.
Волович послушно влез на передок, заслонив, однако, собой Гуляйбабку. Над каретой взвизгнули пули. Сидящие на передке дважды им поклонились. В третий раз один из них ухватился за локоть, другой — за щеку.
— Что с вами? — вскрикнул Волович, ежась и зажимая локоть.
— Чепуха. Щеку царапнуло. А вы что? Что с вами?
— Ранен. В локоть, черт возьми.
И тут Гуляйбабка, вскочив на сиденье, загнул такую завихрастую, многоступенчатую ругань, не забыв в ней упомянуть Христа-спасителя, ангелов и всех пресвятых богородиц, что кричавшие «ура» враз замолкли. Так бывает, когда человек проглотит что-то очень горькое, невпродых. Из болота, затянутого туманом, доносился только робкий треск сучьев, шорох, приглушенные голоса.
— Разрази меня гром, браты, так це никто инший, як наш старшина, — говорил один, нервно покашливая. — Наш Иван Бабкин — и только.
— Какой старшина? Откуда он свалился? Почудилось тебе.
— Ему вечно чудится. То голос Яди, то Нади, то теперь старшины. Пошли! Громи их, ребята!
— Ах, вот кто там! Вот кто, елкин сын, вздумал громить старшину! — крикнул Гуляйбабка. — Видать мало, ох, как мало я вам, рядовой Суконцев, нарядов подсыпал! И вас щадил, Степкин, и тебя, Крапива, лишь изредка в каптерку вызывал. А зря, видать. Зря сучьих детей щадил. Построже б надо, чтоб помнили своего командира. А ты, Семочкин. Тот самый Вася Семочкин, которому я лично добавки каши приносил. Как же ты мог не узнать меня? Да мало того, стрельбу открыл? А по кому? Да по своему же родному командиру. Чуть не выбили глаз. Это кто там проявил такие незаурядные способности в меткой стрельбе? Федя Щечкин, Балюра? Воробьев? Артюхов?