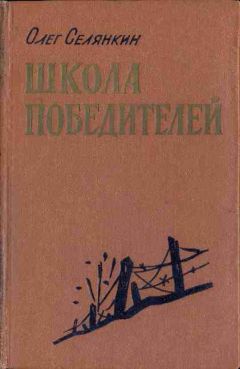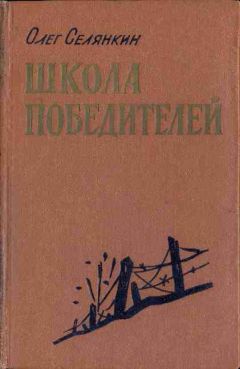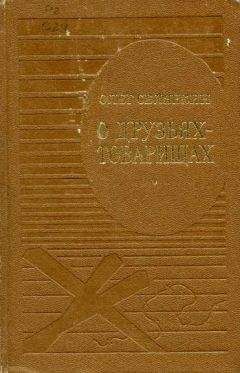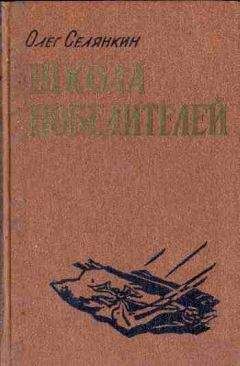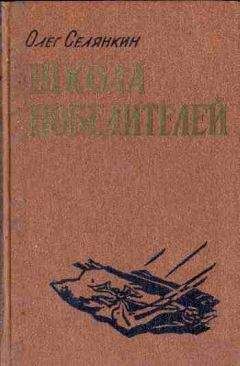Около стола сидит капитан Козлов. Он уже присмотрелся к морякам, полюбил их спаянность, дисциплину и даже со многими подружился. Его гимнастерка разорвана, видны голые локти, но ворот застегнут.
У порога неразлучная троица: Лебедев, Норкин и Селиванов. Леня теперь командует второй ротой, но по-прежнему прислушивается к мнению Михаила, а следовательно, и Лебедева, который фактически стал комиссаром двух рот. Голова Селиванова забинтована. Безжалостная рука Ковалевской сняла с нее черную курчавую шапку волос. Кулаков невольно улыбнулся, вспомнив подробности ранения Селиванова. Его ранило на третий день после того как батальон занял круговую оборону. Еще с утра солнце светило ярко, празднично. Даже фашисты словно расчувствовались, наслаждались погожими днями «бабьего лета» и не стреляли. Правда, ночью у них был слышен какой-то шум, несколько раз блеснули фары машин, но мало ли что могло происходить у противника? Может быть, перегруппировывались, готовились к наступлению, но морякам казалось, что они готовы к любым неожиданностям, и они брились, стирали, чинили обмундирование: ничто не предвещало грозы, все думали, что этот день пройдет спокойно и не появится на площади села еще один холмик из свежей земли. И вдруг все вздрогнуло от дружного залпа нескольких батарей и заскрежетали по железу крыш осколки. Отшвырнул матрос мокрую тельняшку и как был, голый по пояс, так и встал на свое место, хозяйским движением рук проверил гранаты, автоматные диски.
Минут тридцать молотили мины по окопам, а потом стали рваться на дорогах и тропинках, по которым могло подойти подкрепление. Моряки, прижимаясь к стенкам окопов, приподнялись, чтобы взглянуть, ради чего фашисты такой концерт начали, а из вражеских окопов уже вылезли солдаты, построились и, выдерживая равнение, высоко подымая ноги, густыми цепями шли к деревне. И каждому стало ясно, что началась «психическая атака». Мерный топот ног, однообразный взмах рук, будто на параде. Вот автоматная очередь хлестнула по первой ше ренге. Матросы видели, как упало несколько солдат, но на их место сразу выскочило несколько людей из задних рядов, и снова ровная шеренга, отбивая шаг, движется вперед. Пулеметы Чигарева работали без передышки, можно было поручиться, что почти каждая пуля попадала в цель, а цепи всё шли и шли тем же широким, тяжелым шагом.
Атакующие прошли уже половину расстояния между окопами. Первая шеренга вскинула автоматы и побежала, поливая землю свинцом. Не слышно свиста отдельных пуль. Весь воздух стонет от них. Кзалось, еще немного, еще секунда, и кончено будет с матросами, захлестнет их окопы серо-зеленая волна.
В этот момент и выскочил из окопа голый по пояс матрос. Он не кричал, не звал за собой. Он только бежал на фашистов, подняв над головой «лимонку». Она могла разнести его в клочья, но он не боялся смерти, не думал о ней. А фашисты подумали о ней, испугались ее. Они остановились, сгрудились. Сюда, в толпу, и упала граната. Много гранат упало: не один, а много матросов уже бежало по полю. Бежали в атаку люди в бушлатах, синих кителях, в тельняшках и в гимнастерках; бежали люди с автоматами и с винтовками; бежали молодые парни и солидные отцы семейств, одинаково упрямые и злые, сильные верой в победу. И фашисты не выдержали: как мыльный пузырь, лопнула психическая атака; бросая автоматы, побежали немецкие солдаты к своим окопам, надеясь найти там спасение, а за ними неудержимо катился матросский гневный вал.
Селиванов поднялся из окопа вместе с матросами и уже сделал несколько шагов, когда пуля задела его голову.
Вернее, она разорвала только кожу. Боли Селиванов не почувствовал, стер рукой кровь, хлынувшую на глаза, и побежал дальше. Он ворвался в самую гущу и колотил прикладом налево и направо. Кровь заливала глаза, мешала смотреть, и он злился, бежал дальше и бил, бил.
А сзади Селиванова и чуть-чуть сбоку бежал Омель-ченко. Он редко стрелял, еще реже бросал гранаты, но зато почти непрерывно кричал:
— Левее, товарищ лейтенант! Кочка! Прыгайте! Тут ямка!
Леня никому не говорил, слышал ли он голос Омель-ченко, следовал ли его советам, но после боя долго еще смеялись моряки, вспоминая, как связной командовал своим командиром.
А когда Селиванов спросил, хмуро глядя на своего связного:
— Ты чего кричал?
Омельченко с чувством собственной правоты ответил:
— Кровь застлала очи и вы не бачили, куда лезли. Все это вспомнил Кулаков, осматривая командиров, вздохнул и заговорил не спеша, будто даже лениво:
— Начнем… Обстановка вам и так ясна… Кругом фашисты!.. Утешительного в этом мало. Конечно, мы можем еще держаться, но у нас кончаются боеприпасы. По последним данным, на триста пятнадцать человек мы имеем сорок семь гранат, около пяти тысяч патронов и двести восемьдесят три ножа…. Цифры — упрямая вещь. Значит, сидеть здесь мы больше не можем. Надо уходить. Вопрос только в том — куда? Я думал над этим и решил так. Немцы, конечно, догадываются, что боезапасы у нас кончаются и мы должны будем сдаться или попытаться прорвать кольцо. Где нам его рвать? Самая короткая дорога — ударить на восток… Заметьте, что с той стороны на нас и нажимают вроде бы слабее… Я думаю — там нас и ждут. А раз так — мы ударим на запад. Прорвем фронт и уйдем в лес! — Кулаков замолчал и пробежал глазами по лицам собравшихся.
Теребил мочку уха Козлов; кусал ногти Селиванов; прижавшись затылком к косяку, сидел Норкин и смотрел на Кулакова.
«Почему молчат? Не согласны со мной?» — подумал Кулаков и спросил:
— Другие мнения есть?
Снова молчание. Да и о чем говорить? Ведь не сдаваться же?!
— Значит, согласны со мной?
— Согласны, — ответил за всех Козлов.
— Тогда вот вам мой план, — оживился Кулаков. — Прорываться будем ночью. Под утро в низине около немцев накапливается туман. Мы тихонько подползем под его прикрытием и без крика бросимся в рукопашную… Нет! Немного иначе. Одна усиленная рота с ножами ворвется в окопы и по возможности бесшумно расчистит проход. Если же будет шум, то шуметь всем, дружно!.. Отступать не будем… Есть вопросы?
— Есть.
— Давай, Андрей Андреевич.
— Чья рота врывается первой?
— Чья?.. Я еще не решил… Все роты хорошие… Но коли ты вопрос поднял — твоей роте и начинать.
Лебедев кивнул головой и зашептал что-то Норкину.
— Больше вопросов нет? Тогда считайте все сказанное за приказ и выполняйте. А ты, Норкин, сдай патроны Селиванову. Тебе от них пользы не будет, а ему для шума пригодятся.
— А я как? Патроны отдай дяде, а…
— А ты, дорогой мой, спокойнее, спокойнее. Все роты без патронов будут… Пусть хоть Селиванов пошумит немного… Авось собьет фашистов с толку…
— Ясно, товарищ капитан-лейтенант!
— Ну и добро… Я пойду со второй ротой… А сейчас можете заниматься подготовкой.
Командиры зашевелились, встали, а Лебедев уже начал подниматься из подвала, как Кулаков снова заговорил:
— О времени сообщу особо. После прорыва каждая рота идет самостоятельно. Фашисты потеряют нас, да и фронт переходить легче будет… Идите!
Снова Кулаков остался один. Он прошелся по подвалу, остановился около полки, потрогал автомат, снял с него соринку и вернулся к столу. Мучительно ныла, горела нога. Она распухла и широкое голенище кирзового сапога сжимало ее как тисками.
Первое время после ранения Кулаков чувствовал себя сносно, но в последнем походе, когда отступали к этому селу, он натер ногу и рана разболелась. Сначала Кулаков не обратил на нее внимания, а вот уже два дня как боль стала невыносимой, появился жар и в голове впервые мелькнула мысль: «Неужели заражение?»
Кулаков отогнал ее прочь, старался не думать об этом, но решил, что при первом удобном случае покажет ногу врачу. Конечно, «удобный случай» мог быть в любой день — свой теперь врач в батальоне, но Кулаков упрямо молчал, говорил с Ковалевской о чем угодно, а свое ранение обходил стороной. Даже когда сама Ковалевская спросила, почему он хромает, не нужна ли ему медицинская помощь, он махнул рукой и беспечно сказал:
— А ну ее! В пехоте не служил, портянки наматывать не умею, вот и натер ногу немного… Заживет.
Разве легче бы ему стало от того, что все узнали бы о его ранении? Конечно, нет, а у матросов и так настроение не из лучших.
После ранения Ясенева Кулаков не имел комиссара.
— Я коммунист и отвечу сам перед партией, а в ротах комиссары нужнее! — ответил он начальнику штаба батальона старшему лейтенанту Мухачеву, который предложил ему назначить на эту должность Лебедева, а потом, после выхода из окружения, добиться и утверждения этого приказа.
И связных не было у Кулакова. Он их отправил в окопы, как только батальон занял круговую оборону.
Теперь вопрос о прорыве был решен, приказания отданы и оставалось только ждать ночи, чтобы выполнить их. Кулаков начал не спеша собирать вещи. Он уложил в вещевой мешок зеленый китель, пару белья, железную кружку с отломившейся ручкой, посмотрел на пустые полки, проверяя, не забыл ли чего-нибудь, и подумал: «Зачем все это? Я и так еле бреду, а собираюсь тащить еще и эти тряпки… Живы будем — наживем! Пусть остается», — и он бережно положил мешок на полку.