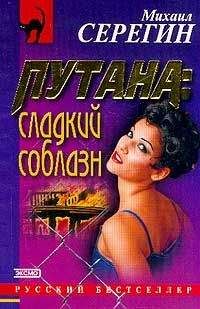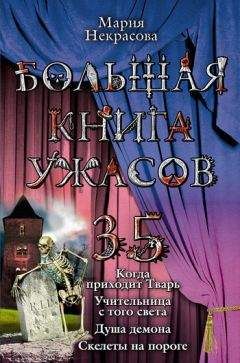Этот, увы, далеко не каждодневный, заработок он и нес в гетто. Но поскольку не давать семье умереть с голода тоже было запрещено, проносить свое богатство приходилось уже изобретенным кем-то способом. Картофелины или брюкву, например, разрезал на ломтики и аккуратно раскладывал в шапке под подкладкой. Аннушка даже ячейки для них пошила. Поверх белья носил специальную, пустую стеганку, вроде безрукавки. И если гонораром оказывалась мука, он ее засыпал в промежутки между швами; она там ложилась тонким слоем, и при обыске у ворот эта стеганка вполне могла сойти за ватный жилет.
Но вскоре охранники все эти старания обмануть их бдительность разгадали. Теперь можно было рассчитывать только на то, что их колонна попадет к не очень вредному полицейскому или как раз в такой момент, когда ему надоест обыскивать и он не станет слишком усердствовать. А если и найдет эту великую «контрабанду», то, может, только надает тумаков и заставит все выбросить, — говорят, отобранное идет к ним в котел. Хуже, если попадешь к подлецу не только по должности, но и по сути. Такой, когда обыскивает, на самом деле держит твою жизнь в своих руках: то ли сам, так сказать, собственнокулачно накажет, но все же отпустит, то ли после этого еще и отправит в геттовскую тюрьму. А оттуда… Могут, конечно, утром выпустить на работу, но только если… Если именно в ту ночь немцы не ворвутся в гетто. Тогда первыми заберут их, «нарушителей». И все-таки самое главное — если что-нибудь несешь, не нарваться у ворот на эсэсовца, который вдруг решит проверить, достаточно ли старательно полицейские обыскивают. Тогда десять ли картофелин нес, или одну… Только и постоишь невдалеке от своих — всего ворота и кусок улочки разделяют, — пока соберут побольше «преступников» да вызовут конвоиров.
Оттого-то Аннушка каждый вечер так волновалась, так ждала.
А сам старый Зив? Какая разница, волновался — не волновался, если все равно, было бы только что нести, — нес. Потому что в гетто его ждал, уже с самого утра начинал ждать, Яник. Бледный, худенький. Он напряженно следил, как дед раздевается, смотрел на руки — не достанет ли чего-нибудь…
И в той, прежней жизни самым трудным было видеть страдания детей. Но тогда он мог им помочь. Теперь страдал от голода собственный внук.
Поняв, что дед ничего не принес, Яник сразу отворачивался, уходил в свой угол за сундуком и садился на пол. Сидел и молчал… А их, взрослых, это молчание пугало. Лучше бы хныкал, просил.
Стыдно было ему, врачу, думать, что, может быть, завтра кто-нибудь занеможет. Но ничего не поделаешь, думал…
Правда, не только ради «гонорара» ждал он пациенток. Была еще одна, более серьезная, даже главная причина: с каждым днем он все яснее понимал, что из гетто необходимо вырваться. Всем, конечно, не удастся. Но хотя бы Яника спасти… И как можно скорее, пока эти звери не придумали очередного повода для акции.
Предыдущие акции их семью, слава богу, миновали. И в самые первые дни, когда расстрел множества людей назывался «взять заложников». И когда это же называлось «за покушение на немецкого солдата». И когда никак не называлось: просто в гетто всех евреев города было не уместить, и поэтому многих угнали прямо в т о т лес с готовыми ямами. И во время последних акций, когда угоняли вместе с семьями тех, у кого не было удостоверений специалистов, ремесленников.
Да, до сих пор везло. К счастью, у всех четверых эти удостоверения есть. Ничего, что Виктор теперь больше не врач, а стекольщик, Борис — не студент, а токарь, Марк стал маляром. И сам он, Зив, записан столяром. Зря Аннушка боится, что фабричное начальство вздумает проверять, какой из него столяр, — ведь, наверно, давно забыл, с какой стороны подходить к верстаку и как держать рубанок. Нет, не забыл. Руки хоть и отвыкли, но то, что знали в молодости, помнят и в старости.
А помнить есть что. Отец его был столяр, и мальчишкой он часто ему помогал. Пока все-таки не упросил, чтобы его отправили в настоящий город, где есть гимназия.
Отправить-то отправили, но дать с собою могли, как мать это назвала, «половину своей бедности». Правда, сшили, вернее, перешили из дедушкиного сюртука и брюк костюм. Первый в жизни настоящий костюм. Черный. Хорошо, что и галстук к нему был черный, когда брюки протерлись, этот галстук пригодился на заплаты. Потому что родительской помощи и собственного заработка за уроки тупому сынку бакалейщика хватало только на четвертинку хлеба и соленый огурец на целый день.
К сожалению, и в студенческие годы в Берлине довольно часто приходилось доказывать себе, что вовсе не обязательно каждый день обедать.
Смешно вспомнить, но судьбу его решила… почтовая марка.
В университет его не приняли, и он решил пойти к неприступному, как все уверяли, профессору Фанзену просить, чтобы тот разрешил посещать лекции на правах вольнослушателя. От профессора действительно веяло холодной строгостью. Но, узнав, что стоящий перед ним проситель приехал из Литвы, неожиданно оживился. Оказывается, как раз накануне он поспорил со своим коллегой: тот утверждал, будто Литва и Латвия — одно государство, только его название произносится неодинаково. А он, профессор Фанзен, уверен, что это — отдельные государства. Так ли это?
Так. К счастью, в кармане (все тех же заплатанных брюк) было письмо из дома. Маленькая почтовая марка на конверте помогла профессору доказать свою правоту, а ему стать вольнослушателем Берлинского университета. В студенты он был переведен уже без посредничества почтовой марки. Зато времени, чтобы подрабатывать уроками, оставалось совсем мало…
Когда он на каникулы приезжал домой, мать безошибочно угадывала:
— Опять сидел на одном хлебе с огурцом?
А отец, если только у самого была работа — что случалось не так уж часто, звал к верстаку:
— Ну как, без пяти минут доктор, еще не разучился держать рубанок?
Правда, с тех пор прошло много лет… Но если какой-нибудь фабричный блюститель интересов фюрера вдруг вздумает проверить, не зря ли ему выдали спасительное удостоверение, — справится. Рубанок сам будет делать то, что надо. Хоть и кусок дерева, а поймет, что речь идет о жизни. И не только его…
Если бы грозили лишь проверки. Но ведь не угадаешь, что еще они могут придумать. А могут и вовсе больше не придумывать. Просто ликвидировать гетто, то есть всех расстрелять, чтобы освободить жизненное пространство для своей, высшей расы.
Кажется, нет человека, который, узнав, что он учился в Германии, не спросил бы:
— Как могло случиться, что целый народ стал убийцей?
А что он может ответить? Что все-таки не весь. Он надеется, что не весь…
Но много их, очень много. И эсэсовцев, и гестаповцев, и всяких других. Высокие чины приказывают, средние — рады стараться, а низшие исполняют — ведут, дают автоматные очереди. Даже по детям…
И Яника могут…
Раньше, в больнице, он и возле самого тяжелого, почти, казалось, безнадежного ребенка ни на мгновенье не позволял себе допустить мысль о летальном исходе. Спасет, должен спасти! Теперь мысль, что Яник обречен, не оставляла и во сне.
Но как спасти? Как? Для этого его надо вынести из гетто. А куда? К кому? Кто его спрячет?
Почти с каждой пациенткой, после того как выслушивал ее жалобы, осматривал, объяснял, что делать, заводил все тот же разговор… Что из гетто опять угоняли. Что у него внук. Мальчик послушный, смышленый: когда во время акций его прячут в сундук, он лежит там тихо, даже не поскребется. А фашисты и маленьких детей не жалеют…
Женщины ему сочувствовали. Но… Чтобы предложить то, чего он так ждал от них, они должны рисковать жизнью собственных детей. И он это понимал. Даже спешил уверить, что понимает. Все равно объясняли. Опять кого-то повесили за то, что прятал на чердаке то ли раненого русского, то ли убежавшего из гетто еврея. Да и держать ребенка негде — даже чулана подходящего нет. А как втолковать своим малолеткам, чтобы молчали? Если же не прятать, чтобы играл и спал вместе со своими, — соседи начнут расспрашивать: кто да откуда? Всякие люди есть. И очень напуганы теперь — карают ведь и за то, что не донес. А если увезти внука куда-нибудь в деревню, на хутор?
Аннушка знала о его стараниях. Но не очень верила в удачу. Да и у него самого не было оснований надеяться. А все равно с каждой приходившей к нему женщиной — мужчины редко заглядывали — заводил все тот же разговор. Потому что… Надо ли объяснять, почему, если он видит в глазах Яника постоянную мольбу: «Деда, спаси меня…»
В то утро, когда в сушилку вошла Моника — как ее зовут, он уже потом узнал, а тогда просто вошла немолодая, в черном халате и с явно базедовой болезнью женщина, — он как раз думал о том, что уже два дня никого не было…
— Проходите, пожалуйста. Я сейчас.
Но она стояла в дверях и то ли удивленно, то ли с недоверием смотрела, как он в одиночку ворочает свои «подопечные» доски. И чтобы она не ушла, повторил: