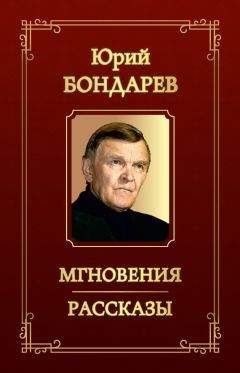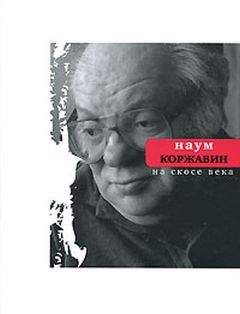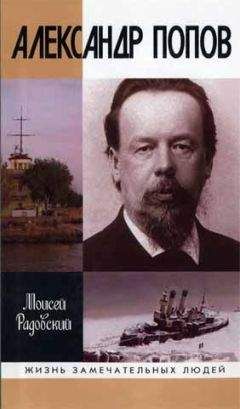Ознакомительная версия.
Отец, молодой, в белой рубашке, улыбается, смотрит на меня, и мы, будто во всем равные мужчины, наслаждаемся здесь после рабочего дня, вечерним лепетом арыка, зажигающимися огоньками в городе, холодным пивом и пахучим миндалем.
И очень четок в памяти моей еще один вечер.
В маленькой комнате он сидит спиной к окну, а во дворе сумерки, чуть-чуть колышется тюлевая занавеска; и непривычной кажется мне защитного цвета тужурка на нем, и темная полоска пластыря повыше его брови. Я не могу вспомнить, почему отец сидит у окна, но мне представляется, что он вернулся с войны, ранен, разговаривает о чем-то с матерью (говорят они оба неслышными голосами), – и ощущение разлуки, сладкой опасности неизмеримого пространства, лежащего за нашим двором, отцовского мужества, которое было проявлено где-то, заставляет меня испытывать особую близость к нему, похожую на восторг при мысли о домашнем уюте собранной нашей семьи в этой маленькой комнате.
О чем говорил он с матерью – не знаю. Знаю, что тогда и в помине не было войны, однако сумерки во дворе, пластырь на виске отца, его военного покроя тужурка, задумчивое лицо матери – все так подействовало на мое воображение, что и сейчас я готов поверить: да, в тот вечер отец, вернулся, раненный, с фронта. Впрочем, более всего поражает другое: в час победного возвращения (в сорок пятом году), я, подобно отцу, сидел у окна в той же родительской спальне и, как в детстве, снова пережил всю невероятность встречи, как если бы прошлое повторилось. Может быть, то было предвестьем моей солдатской судьбы и я прошел по пути, предназначенному отцу, исполнил недоделанное, недоисполненное им? В раннюю пору жизни мы тщеславно преувеличиваем возможности собственных отцов, воображая их всесильными рыцарями, в то время как они обыкновенные смертные с заурядными заботами.
До сих пор помню день, когда я увидел отца так, как никогда раньше не видел (мне было лет двенадцать), – и это ощущение живет во мне виной.
Была весна, я толкался со школьными друзьями около ворот (играли в «жестку» на тротуаре) и, вдруг, неожиданно заметил знакомую фигуру неподалеку от дома. Мне бросилось в глаза: он оказался невысокого роста, короткий пиджак некрасив, брюки, нелепо поднятые над щиколотками, подчеркивали величину довольно стоптанных старомодных ботинок, а новый галстук, с булавкой, выглядел словно бы ненужным украшением бедняка. Неужели это мой отец? Лицо его всегда выражало доброту, уверенную мужественность, а не усталое равнодушие, оно раньше никогда не было таким немолодым, таким негероически-безрадостным.
И это обнаженно обозначалось – и все вдруг представилось в отце обыденным, унижающим и его и меня перед школьными моими приятелями, которые молча, нагловато, сдерживая смех, смотрели на эти по-клоунски большие поношенные башмаки, выделенные дудочкообразными брюками. Они, мои школьные друзья, готовы были смеяться над ним, над его нелепой походкой, а я, покраснев от стыда и обиды, готов был с защитным криком, оправдывающим отца, броситься в жестокую драку, восстановить святое уважение кулаками.
Но что же произошло со мной? Почему я не бросился в драку с приятелями – боялся потерять их дружбу? Или не рискнул сам показаться смешным?
Тогда я не думал, что настанет срок, когда в некий день я тоже окажусь чьим-то смешным, нелепым отцом и меня тоже постесняются защитить.
«Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится вдаль…»
Я сел на диван, чтобы успокоиться, потер лоб, и когда стал вспоминать слова любимой песни моей матери, показалось, что в этот миг кто-то думал обо мне с такой любовью и тоской, что вскочил, начал ходить по комнате, не зная, что происходит со мной, готовый плакать, просить прощения. Будто сквозной ток доходил до меня через пространство ночи, преодолевая зимний город, и вдруг я понял, что это она, моя старая мать, лежавшая сейчас там, в неприютной больнице, одна, беззащитная перед болью, в забытьи думала обо мне с безмерной любовью, которая бывает на земле только у матерей. Но когда и где я впервые слышал эту простенькую грустную мелодию и почему слова ее были связаны с матерью?
И мне стало представляться как она босиком ходила по глиняному полу, тонкая, в белой кофточке, напевала негромко прелестным голосом: «Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится вдаль», останавливалась возле окна, улыбалась, поднимала лицо к среднеазиатскому солнцу, сквозившему через ветви карагача. Я видел ее прозрачные от обильного света глаза, ее губы, которые будто влюбленно произносили молитву, говорили о когда-то молодой грусти этому утру, солнцу, плещущему арыку: «Я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет…» А я, до восторга влюбленный в мать, не мог понять, кого не было с ней рядом, кого ей было жаль, к кому стремилось ее сердце: ведь отец редко бывал в отъезде. Он боготворил мать, был предан дому, отличался веселым нравом. Порой он носил ее, как ребенка, на руках, целуя ее волосы, а она почему-то обреченно прижималась щекой к его груди.
Однажды услышал я, что она плакала за ширмой, свернувшись калачиком на диване, и, испуганный, бросился к ней, закричал: «Мама, не надо!» Со страхом увидел ее слипшиеся, ресницы, но мать попыталась улыбнуться мне, потом, обняв, начала гладить мою голову нежными пальцами и говорила шепотом, что отчего-то взгрустнулось, но вот прошло, миновало…
Но почему иногда тосковала она? В какие дали, к кому тянуло ее? Всю жизнь она верно прожила с отцом, и я не узнал ее тайну…
А теперь в беспамятстве, на больничной койке, она витала над краем пропасти, и, видимо, в момент краткого просветления вспомнила обо мне с той любовью, с той непереносимой виной в душе. И я ходил по кабинету, стонал, кусал губы, чтобы одной болью заглушить другую, не зная, чем помочь ей, облегчить ее страдания, и бормотал, как в беспамятстве, незатейливые эти слова:
– Кого-то нет, кого-то жаль…
Наверное, не только у меня бывали минуты, когда не приходило спасение от самого себя.
В Западной Африке и Южной Америке обитает странная, казалось бы, рыба Balistes Capriscus – рыба с человечьим лицом, раз я видел ее в копенгагенском аквариуме. Она зловеще вращает глазами, дышит, как человек больной насморком, приоткрывая губастый рот, – не рыба, а вздувшийся человеческий профиль, обросший плавниками, кошмарное видение, некий персонаж, сошедший с картин Босха и Брейгеля.
Видели ли когда-нибудь эти два художника подобную рыбу?
Нет, они не были ни в Африке, ни в Южной Америке, жили в Нидерландах. Подобный образ получеловеческой головы-полурыбы создало их воображение – обостренная фантазия, – направленное против физического и нравственного уродства человека.
Действительность выше самой неограниченной, гениальной фантазии; в неизмеримой воображением жизни есть все, поэтому творчество человека никогда не достигнет исчерпывающей красоты или же безобразности многоликой и многогранной реальности.
На тротуарах текла вечерняя толпа, мимо подъездов отелей «Амбассадор», «Золотой петух» выработанной фланирующей походкой прохаживались с сумочками через руку в меру подкрашенные девушки, переговаривались со степенными швейцарами.
На открытой террасе кафе «Европа» сидели молодые женщины в шляпах, мужчины в костюмах, оттуда доносился иностранный говор. Два солдата у киоска ели с аппетитом сосиски, макая их в горчицу на блюдечках, и, то и дело оглядываясь на проходящих девушек, жевали сильными челюстями.
Юные люди с гладкими прическами, распахнув плащи, засунув руки в карманы брюк, шли, разговаривали громко, дымили сигаретами, смеялись, тоже оглядываясь на проходивших женщин.
Я дошел до конца площади, постоял у газетного киоска, читая названия иллюстрированных журналов – на меня смотрели через стекло очаровательно-холодные лики женщин на гладких глянцевитых обложках: лики выражающие невинность.
Это множество лиц, стандарт красоты, одежды, пленительно-заученных улыбок, костюмных поз не вызывало чувств и я вспомнил американский журнал «Плейбой» (журнал для мужчин), где каждый год появлялись фотографии «Мисс красоты», там все было рассчитано на «мальчиков», которые должны захотеть быть обладателями этой красоты: поднятые вырезами купальника груди, тугие бедра, обнаженные и оттененные чистейшими простынями или обивкой софы, – среди избранных были известные актрисы, знаменитые спортсменки, открывающие красоты своих втянутых животов, мускулатуры, неженственной силы.
Разумеется, то Америка, но и в европейских городах с допусками плюс-минус давно определен стандарт женской притягательности. В ней нет изюминки, нет той скромности, которая и есть секрет женственности. Нет, это красота фотогеничная, как белый цвет бумаги.
Я вспомнил о чистоплотной красоте эллинок, о лицах эпохи Ренессанса, о некрасивой и вместе загадочной Моне Лизе, о рубенсовских и ренуаровских женщинах, о «Неизвестной» Крамского и крестьянках Серебряковой.
Ознакомительная версия.