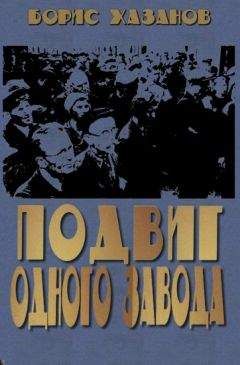Катастрофы не произошло.
Снова начинаем подъем. На этот раз рядом с трактористом идут бойцы орудийного расчета, с «железяками» на проволоках. «Железяки», придуманные сержантом Квашней при штурме горы Чертеж, нам пригодились десятки раз.
Это и называется «наступлением в трудных условиях горно-лесистой местности».
Но наступление — это бой.
Каждый день идет тарарам. Каждый день ползут по склонам гор дымы разрывов. И не поймешь, то ли это дым, то ли облака.
Немцев приходится выкуривать с вершины каждой горы. Сопротивляются они отчаянно. Засядет в ущелье один пулеметчик и проходу никому не дает. А обнаружить его трудно: кругом — нагромождения скал.
Некоторых мы все же находили. Они были прикованы к пулемету цепью. Они не смогли бы убежать, даже если бы захотели… Это смертники — солдаты, заранее приговоренные к смерти.
…Подъем, спуск, подъем, спуск.
Вьется, петляет по горам дорога. Головной в бригаде идет тучковская «семерка». Наша «девятка» за ней.
Вдруг впереди раздается сильный взрыв, поднимается столб дыма.
Высоко в небо летит орудийное колесо. Огромное, тяжелое колесо превращается в маленькую точку…
Пушка «семерки» подорвалась на мине. Колонна останавливается.
Мы начинаем объезжать ее. Около накренившегося на бок подорванного орудия сгрудились солдаты.
Я на ходу прыгаю с трактора. На земле около орудия лежат убитые — те, кто сидел на нем: несколько бойцов и майор Красин.
Смотрю на Тучкова. Он бледный, дышит тяжело, один глаз моргает часто-часто, другой неподвижен… Нервный шок, паралич. Опять, как в тот день, когда Тучков получил телеграмму о гибели отца.
Спрашиваю:
— Василий, тебя не задело?
— Нет.
— А почему Красин?..
Тучков, еле поворачивая язык, объясняет:
— У него штабная машина забарахлила. Остановил нас. Я ему говорил: «Садитесь на трактор». А он сказал: «Люблю прокатиться на пушке, по старой солдатской привычке…»
По краям дороги стоят шесты с дощечками: «Разминировано». Все мины саперы обезвредили. Эту, проклятую, не нашли. Наверно, была деревянная и зарыта глубоко: миноискатель не почувствовал. Трактор проехал по ней гусеницей — она не сработала, а вот орудие колесом надавило…
Подбегает Любка:
— Дайте дорогу, мужики! Раненые есть?
Раненых нет. Все убиты.
Тела двух бойцов настолько изуродованы, что и не узнать, кто они. А у Красина — ни кровинки: его тряхнуло взрывной волной.
Он лежит на спине и смотрит застывшими глазами в хмурое карпатское небо. Под ремнем шинели — обломок тросточки.
Сегодня утром во время короткой остановки он сидел на подножке своего «газика» и вырезал ножом на палке орнамент.
— Знаешь, Крылов, — сказал он, — я такую удобную ветку срезал — прямую-прямую. Тросточка из нее получится — загляденье!
Мы снимаем шапки.
Подъезжает повозка. На нее кладут убитых.
Майора Красина и бойцов орудийного расчета хороним на окраине деревни Святого Павла.
Есть в Словакии такая долина, где все деревни названы святыми именами: Святого Петра, Святого Антония, Святого Матвея.
В этой долине бьет целебный источник. И за сотни километров с далеких гор приходят сюда больные люди, чтобы избавиться от недугов.
Красин нашел здесь смерть.
Над могилой, выдолбленной в мерзлой, каменистой земле, солдаты и офицеры произносят прощальные слова.
Морозный воздух, неподвижную, омертвелую тишину «святой долины» разрезает салют из автоматов…
Ко мне подходит капитан Исаев. Удрученно качает головой:
— Не могу поверить! Сколько огней видел человек, и надо же тут… Когда и война-то кончается. Ну что ж? Пойду сказать, чтобы заводили моторы.
Исаев делает несколько шагов, оборачивается, грустно, тяжело улыбаясь, показывает мне три пальца…
К нам в гости на наблюдательный пункт «девятки» пришла Любка.
Как обычно, сержант Богомазов играет на гитаре, Любка поет о теплом ветре.
На нашем «южном» фронте действительно веет теплый ветер. Тает снег, с гор бегут бесшабашные весенние потоки.
И небо стало добрее: с каждым днем все больше голубизны. И облака выше.
Валиков ходил в штаб с донесением и принес Любке букетик подснежников.
Любка поет. Песен она знает много. Голос у нее не ахти какой, но поет она задушевно.
— Ну ладно, мужики, я устала, — говорит она. — Заведите вашу шарманку. Хочу послушать настоящую музыку.
«Настоящая музыка» — это наша венгерская пластинка. А шарманка — патефон, который неутомимый «следопыт» Козодоев вытащил из-под кучи барахла на разбитом немецком грузовике.
Плачет скрипка… Мягчит и будоражит сердца мятущаяся мелодия. В ней столько нежности, может быть неразделенной любви, и столько боли!
Пластинка уже кончилась, патефон шуршит вхолостую, мы сидим задумавшись.
— Ну что? Следующую поставить? — спрашивает Богомазов. — «Слезы портят ресницы»?
— А что мы в тоску ударились? — говорит Валиков. — Любка, спой что-нибудь веселое.
Любка опускает ресницы, смотрит вниз, отвечает тихо:
— Не могу, мужики. Что-то мне тяжело стало.
— С чего бы? Надо радоваться. Скоро войне конец.
— Вот именно! — запальчиво произносит радист Кучер. — Возьмем Берлин и в крышу самого высокого здания воткнем знамя Победы!
— А какое в Берлине самое высокое здание? — провокационно улыбаясь, спрашивает Валиков.
Он любит задавать Кучеру заковыристые, порою даже нелепые вопросы. И все для того, чтобы поставить паренька в тупик, сбить пафос, с которым всегда говорит Кучер. Кучер в таких случаях сначала тушуется, потом кипятится.
— С тобой, Валиков, трудно говорить. Тебе только в цирке работать…
— А что? Кончится война, и пойду в цирк. Возьму себе в помощники Козодоева. Такой номер: как на пустой арене, где ничего нет, найти мотоцикл? Или граммофон?
Польщенный Козодоев довольно улыбается: его способности «следопыта» еще раз оценены.
— Нет, Кучер, в цирк я не пойду, — продолжает непринужденно болтать Валиков. — Вернемся с фронта — ты будешь председателем колхоза, а я у тебя пасечником. Самое милое дело — пчелами заниматься. Лежишь на траве, кругом тебя вулыки, жужжат бджолы.
— Кучеру председателем не быть, — лукаво улыбаясь, говорит Богомазов. — Председателем будет Вяткин. Он давно к этому готовится…
Козодоев, дежурящий у телефона, делает знак рукой: «тише», кричит в трубку:
— Слушаю, слушаю! Восемнадцатого? Передаю.
Я беру трубку.
— Восемнадцатый.
Говорит начальник разведки второго дивизиона.
— Крылов, у нас большая беда… Мне сказали, что Любка у тебя на пункте…
— Какая беда? При чем Любка?
Любка слышит, вздрагивает, замирает.
— Исаева тяжело ранило… Плохо ему. Просит, чтобы Любка прибежала проститься… А то увезут.
— А что произошло?
Произошло трагическое. Палатку, где находились Исаев и несколько человек из штаба второго дивизиона, немцы в лесу закидали гранатами. Небольшая диверсионная группа, одна из тех, что остаются в нашем тылу для разбойничьих действий. Сняли часового, бросили несколько гранат и убежали.
Сейчас капитана Исаева вынесли из леса. Он лежит в охотничьем домике, скоро должна подойти машина.
Любка плачет, вцепившись руками в волосы.
— Любка милая, не плачь, иди скорее, — говорю я. — Валиков, ты пойдешь вместе с ней.
Любка перестает плакать, только глаза ее, глаза с выражением ужаса, испуга, лихорадочно блестят.
— Иду, иду, — говорит она, кусая губы.
Нет теперь у нас в бригаде капитана Исаева, а у Любки нет любимого человека — самого нежного, самого внимательного и заботливого. Виделись они не часто, но Любка постоянно чувствовала рядом его уверенную, твердую мужскую руку. И всегда можно было ему сказать то, что говорят самым родным. А теперь Любка совсем одна на свете.
Тогда в «святой долине» мы виделись с капитаном Исаевым, как потом оказалось, в последний раз. Он ушел и показал мне три пальца. Теперь я сам себе показываю два…
«ДЕВЯТКУ» ПЛОХО СЛЫШНО…
«Восемнадцатого» срочно требуют явиться в штаб дивизиона для знакомства с новым командиром.
Идем лесом, спускаемся в ущелье. Невдалеке деревенька. Там штаб.
— Интересно, какой он, новый комдив? Хорошо бы такого, как Красин… — говорит Валиков.
А я тоже думаю: какой?
Валиков остается во дворе, я поднимаюсь на крыльцо, открываю дверь и вижу… капитана Дроздова.
Он, как и всегда, стройный, подтянутый, сверкающий пуговицами и в начищенных сапогах.
Узнаю его сразу. Разве забудешь человека, который тысячу раз останавливал тебя в училище: «Вы меня неправильно поприветствовали… Фамилия? Из какого взвода? Дайте курсантскую книжку!»