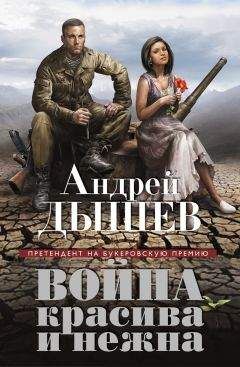Герасимова морило в сон. Он завидовал бабкам, лежащих на тюках. Его незаметно толкнули в плечо. Небритый человек с беспокойными глазами едва слышно предложил билет «на любое направление». Отошли в сторону. «Паспорт и деньги, – сказал человек. – Двойной тариф».
Через час Герасимов спал в кресле самолета на высоте 11 600 метров. По правую руку от него молодая мамаша никак не могла справиться с капризным ребенком. По левую руку сидел полный краснолицый мужчина; он часто и тяжело дышал, считал свой пульс, вытирал платком пот со лба и полными ужаса глазами косился в иллюминатор. Самолет покачивало, иногда подкидывало на воздушных кочках, и мужчина стремительно бледнел и дрожащей рукой доставал из кармана валидол. Он боялся лететь. Герасимов не мог понять, что именно так пугало мужчину. Под ними же Союз! А значит, что ни ДШК, ни ПЗРК, ни «стингер» по самолету не ударит. С этой земли же не стреляют! Полет совершенно безопасный. Все равно что прогулка по парковым газонам – хоть ходи, хоть бегай, хоть валяйся – на мине не подорвешься. Это же такое благо – без боязни ходить, без боязни летать. Толстый дурачок этого не понимает. Все люди, которые живут в Союзе, это благо получают просто так, задаром. Они должны быть расслабленны и веселы. Они должны скакать от радости с утра до вечера, как козлы. Все их заботы и печали – ничтожны, потому как накрыты великим благом. Здесь не опасно, здесь не надо трястись за свою шкуру. Здесь не стреляют, не жгут, не пытают, не подрывают. Здесь можно жить и строить планы на будущее, не добавляя «если, конечно, не погибну». Уу-аа-уу-аа, – на плач ребенка отзывался самолет, словно он прочитал мысли пассажира в грязной военной рубашке, сидящего на месте 8 «б», и выражал свою полную солидарность. Самолет был тертый калач. Как-то он угодил в план Министерства обороны, и его погнали в Кабул за дембелями. Забрал парней на поджаренной кабульской бетонке и глубокой ночью отправился назад, в Союз. Черный крест взметнулся в черное афганское небо. Никаких стробов, никаких сигнальных огней, никакого света в салоне. Все наружное и внутреннее освещение было выключено. Заменщики застыли в тревожном оцепенении. Никто не спал, не дремал. Все тихо дышали, смотрели в темноту и слушали гул двигателей. «Вот сейчас ка-а-а-ак шизданет ракета в двигатель!» – думал каждый. Самолет взбирался вверх по крутой спирали, и подъем был настолько крут, и перегрузки столь велики, что трудно было удержать голову – под собственной тяжестью она заваливалась то на плечо, то на грудь. Подальше от земли, подальше от мрачных ущелий, в которых затаились кровожадные дикари с зенитными комплексами, вверх, вверх, к звездам! И летчики вели самолет в томительном напряжении. Эх, если бы двигатели работали бесшумно! Тогда самолет не только увидеть было бы невозможно, но и услышать. Летел бы он, словно крадучись, совершенно бесшумно, как летучая мышь. Но три двигателя общей мощностью 30 тысяч лошадок – это не хухры-мухры. На какую бы высоту ни взобрался, все равно внизу будет слышно, особенно ночью. И проснется, заворочается на своем каменном ложе моджахед, откинет рваный хитон, раскроет рот, прислушается, буркнет что-то невразумительное и станет расчехлять увесистую трубу «стингера». Помолится наспех, вскинет систему на плечо, прицелится на звук и – пшик! – полетела узконосая тварь с зеркальными глазами на тепло двигателей, стремительно, мощно пронизывая воздух, как торпеда воду; и с каждой секундой все выше, выше, и ее чувствительная головка будет умело управлять оперением, и ракета станет рыскать в черном небе, как волк, бегущий по следу жертвы, и когда почует жар двигателей, то уже полетит прямо, как по натянутой струне, легко догоняя тяжелый самолет, с ходу вонзится в сопло двигателя, разорвется внутри, разворотит рубашку, обвитую патрубками, как венами, искромсает лопатки, перерубит крыло, и в ужасе встрепенутся пассажиры, и горячая волна подлого страха ошпарит их сердца, и вскрикнет борттехник в кабине: «Пожар правого двигателя!» – и командир попытается взять ситуацию под свой контроль, и закричат самые нервные пассажиры, когда почувствуют, что самолет заваливается на бок, переворачивается вверх дном, и последнее в их жизни пламя озолотит отблесками черные глазницы иллюминаторов… Так они думают, пассажиры, дембеля, которым уж поднадоело общаться со смертью, для которых крушение самолета никак не входит в планы – да хватит уж, полтора года на смерть озирались, ее поганый оскал принимали во внимание и обязательно учитывали, когда задумывались о завтрашнем дне. А теперь неохота помирать, коль уж выжил, выкарабкался, с орденом-то на груди, с новеньким «дипломатом», где чудные подарки из дуканов, когда уже маманька с папаней не дни, а часы до встречи считают – нет, теперь погибать западло. И сидят они в кромешной тьме и, наверное, с удивлением замечают, что им страшно, страшно до жути, как было давно-давно, под первым в жизни обстрелом. Ой, парни, пронесло бы! Хоть бы эта бородатая сука, что в каменной щели затаилась, проспала, хоть бы у нее понос начался, хоть бы спусковой крючок на «стингере» заклинило, хоть бы, хоть бы… И уж пальцы немеют, сжатые в замок, и зубы ноют, и скулы от напряжения сводит. Щас ка-а-ак шарахнет, щас как грохнет… Не дай бог, не дай бог. И вздрагивает весь салон от хлопка крышки багажного ящика. «Да какого куя, зема, костями своими гремишь?!! – негодует весь салон. – Сядь на место, мучитель, не шурши ластами, притихни!!» – «Да вы че, братцы, всполошились?! Я только флягу хотел достать, водички попить…» – «Перебьешься! Затухни! Спать не даешь!»
Врут они, никто не спит, да в темноте не увидишь. А напряжение все не отпускает, грудь словно гипсовая – так свело, что вздохнуть тяжело, слово сказать тяжело, даже повернуться в тягость. Когда же граница, когда же, наконец, Союз? Почему так долго летим? По кругу, что ли, через Джелалабад и Кандагар? А летим ли вообще? Прильнешь лбом к заиндевевшему иллюминатору – ни черта не видать. Один сплошной мрак. Ни огонька внизу, ни искорки. Проклятая страна. Черная, зловредная, коварная. Когда ж Союз, пестрый, веселый, жизнерадостный, бесконечно строящий какой-то мудреный коммунизм? Где ты, родная, ласковая, как девица?
И вдруг салон пронзает бешеный звонок – оглушительно громкий, сумасшедший, какой-то запыхавшийся, с огромными глазами, примчавшийся откуда-то из района пилотской кабины, с эврикой, с новостью, и будто сняли с паузы видеозапись, и все пришло в движение, и вспыхнул нестерпимо яркий свет, и цветными огоньками расцветились крылья самолета, и салон залила волна единого вздоха облегчения: СОЮЗ! СОЮЗ! Мы пересекли границу! Под нами уже не Афган! Мы выжили! И страшное напряжение сразу отпустило, оттаяла грудь, и наполнились воздухом легкие, и от головокружительного счастья хочется петь и кричать, и тут уже артиллерийским дивизионом загрохотали крышки багажных ящиков, дембеля начали распатронивать свои запасы, пошли по рядам бутылки с самогоном и шаропом, запрудили весь проход полосатые черти, столпилась у туалетов очередь, и закурили все, даже некурящие. Ура! Все кончилось! Все самое страшное позади! Мы выжили!
Над Союзом – это и не полет вовсе. Это прогулка на лодке по пруду парка культуры и отдыха. А вы, толстый дядечка, все за пульс хватаетесь, на каждой воздушной ямке бледнеете, трясетесь за свою жалкую жизнь. По самолету-то не стреляют! Чего ж вы боитесь?
Самолет, взбалтывая пассажиров, как в огромном миксере, летел через ночь к рассвету. Афган остался где-то очень далеко позади. Герасимов не оглядывался, он интуитивно чувствовал это огромное расстояние, что отделяло его сейчас от Гули, от пыли, от унылых модулей и серых, одетых в мятую рвань бойцов с неживыми глазами. Он думал о предстоящей встрече с женой. Нельзя сказать, что он очень хотел этой встречи, но не сомневался, что она будет приятной. Ее облепили какие-то полузабытые воспоминания, что-то уютное, малоподвижное и пресное, в общем, полная противоположность войне. И пресность эта сейчас была Герасимову в охотку, как все новенькое – хорошо забытое старенькое. И тело, и душа, истерзанные предельной остротой и горечью, желали стариковского комфорта и покоя. Гуля сидела в складках его памяти, как стакан теплой водки, выпитой натощак, как сигарета, обжигающая горло, как заросли роз, разрывающие тело до крови. И она, выплакавшая все стратегические запасы слез, в эти минуты точно так – же вспоминала все оборванные ночи, проведенные в кабинете Герасимова. С его отъездом ей пришлось вернуться в женский модуль, на свою сиротливую койку, которую обитательницы модуля использовали для своих ночных маневров. И здесь ей было пресно и душно, как в санатории для престарелых. Койка казалась слишком просторной, слишком мягкой, рядом сопела новенькая соседка – машинистка из политотдела, строгая дама, чья расческа у рукомойника с намотанным на ней клубком седых волос всегда вызывала у Гули позывы тошноты. Здесь было слишком спокойно, чтобы можно было крепко и быстро заснуть, экономя каждую минутку. Здесь не надо было говорить шепотом, не надо было прислушиваться к голосам за стеной в готовности мышкой юркнуть в подпол, здесь Гуля находилась на законных основаниях, ее бессонные мучения на этой койке не противоречили нравственному кодексу, и это почему-то напрочь отбивало сон.