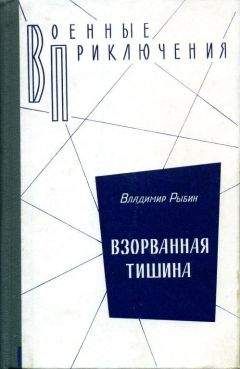Нет ничего больнее боли памяти. Человек, улыбавшийся на операционном столе, содрогается, вспоминая операцию. Люди, встававшие с гранатами на пути вражеских танков, не переносят лязга даже мирных тракторов. Это будит память, возвращает самые страшные мгновения жизни.
Кто-то сказал: «Не возвращайся на пепелище. Жизнь часто приходится начинать сначала, но легче начинать на новом месте». Сорокин не мог не вернуться. В свое время ему стоило большого труда добиться перевода поближе к этому городу, он пошел даже на не перспективную должность, вот уже сколько лет державшую его в звании подполковника. Но забыть то, что было, казалось ему изменой товарищам, оставшимся здесь навсегда.
«Дойти бы до Германии!» — мечтал Серега Шаповалов, самый молчаливый матрос из их батальона морской пехоты. Серега дошел только вон до того угла, где стоит теперь газетный киоск. Тогда, много лет назад, не было угла — лишь куча камней и пляшущий огонек пулеметных очередей из-под них. Что он сделал, Серега, никто из матросов и не разглядел, был взрыв, будто ахнула связка противотанковых, и неожиданная тишина на углу. Атакующие рванули через улицу, сразу забыв об уничтоженном дзоте. Потому что впереди были другие амбразуры, как ненасытные пасти чудовищ, требующие жертв и жертв.
«Эх, братцы, как будем жить после войны!» — любил повторять Сеня Федосюк. Раненного в обе ноги, его оставили дожидаться санитаров вон в том проулке. А потом прорвались фашистские танки. Сеня выполз навстречу и не бросил — не было сил, — сунул гранату под гусеницу.
Маршрут прогулок у Сорокина всегда был один и тот же — путь, по которому пробивались когда-то его друзья-моряки. И он проходил его неторопливо, останавливаясь у каждого угла, где пали товарищи. Нет на тех углах ни могил, ни мемориальных досок: павшие лежат в братской могиле на площади. Только память оставшихся в живых все еще видит монументы у каждого камня, где пролилась кровь. Сколько таких незримых памятников на городских улицах! Улица, в которую свернул Сорокин, была широкой и зеленой. Посредине ее тянулся бульвар. Тополя посвистывали на ветру голыми ветками, монотонно, как море в свежую погоду, шумела плоская зеленая хвоя низкорослой туи. Мимо катилась жизнь, не обремененная воспоминаниями. Ребятишки, прячась за деревьями, играли в уличный бой. Люди торопились по своим делам. И никто не останавливался на углу, где погиб Серега Шаповалов. Никто об этом не знал. Близкий скрип тормозов заставил его быстро отступить в сторону от кромки тротуара. На обочине стояло такси с распахнутой дверцей.
— Садитесь, товарищ подполковник!
Сорокин наклонился, и первое, что увидел в глубине машины, — белый жгут старого шрама на лице шофера. Этот шрам он узнал бы из тысячи других: сам видел, как осколок распорол лицо от лба до подбородка, превратив симпатичную мордашку батальонного юнги Кости Карпенко в кровавую маску.
— Ты?
— Я, товарищ подполковник.
— Чего это «выкать» начал?
— Давно не виделись.
— Где давно, каждый месяц приезжаю.
— Приезжаете, да не к нам.
Не отвечая, Сорокин сел в машину, захлопнул дверцу.
— Здоро́во.
— Ну, здорово.
Они обнялись, изогнувшись, насколько позволяло узкое пространство, помолчали.
— Куда теперь? По нашим местам?
— Загулялся я. Давай в горотдел.
— Ну-ну, — сказал шофер обиженно. И Сорокин понял его: мало осталось ветеранов батальона, и если раньше рассчитывали на встречу через годы, то теперь и месяц был слишком долгим сроком.
— Вот уйду на пенсию, тогда и поговорим и поездим.
— Ну-ну…
Горотдел милиции находился на горе в большом старом доме с высоким крыльцом. Сорокин остановился на верхней ступеньке, чтобы отдышаться, оглянулся, оглядел панораму городских крыш, расстилавшихся внизу пестрым ковром. За крышами на темной глади бухты стояли серые танкеры и сухогрузы. Дальше высились пепельные горы. На вершине одной из них была стройка: топорщились металлические конструкции, зеркально поблескивали на солнце какие-то купола.
«Что они там строят?» Сорокин отметил для себя вопрос как задание разузнать. Дело у него на этот раз, как он считал, было небольшое: помочь товарищам разобраться с местными валютчиками да заодно разузнать, зачем пожаловала в город одна иностранная персона, не бог весть какая, но достаточно одиозная, чтобы не привлечь внимания.
Сорокин еще раз оглядел вершины гор и толкнул тяжелую, на пружинах, дверь. За огромным стеклом перед кнопочным пультом сидел дежурный, сердито говорил с кем-то по телефону. Впереди был коридор, по которому Сорокин мог бы ходить с закрытыми глазами: налево — комнаты ОБХСС, направо — уголовного розыска. Сорокин пошел налево, открыл ближайшую дверь. Следователь, сидевший у окна, скосил на него глаза и холодно кивнул. Он знал этого следователя, не раз встречался с ним в горотделе. И следователь тоже знал, что Сорокин — начальник, даже очень большой по здешним масштабам. В другой ситуации он бы даже сесть не посмел, не спросившись. А тут и ухом не повел, будто свой товарищ пришел.
И все же сухая, как дистрофичка, тетка, сидевшая у стола, будто что-то почувствовав, споткнулась на полуслове.
— Продолжайте, — спокойно сказал следователь.
Тетка покосилась на вошедшего, похожего (в этом у нее был глаз наметан) на командировочного, уставшего от буфетных харчей, и, успокоившись, начала рассказывать о том, как перепродавала иностранную валюту.
— Бес попутал, — жалостливо говорила она. — Никогда я за это дело не бралась, да уж больно хороши были комиссионные, не устояла.
— Кому и как продавали — мы знаем, а вот где вы брали валюту?
— Дак где, там же, в палатке своей. Пришел один с «зелененькими». Двадцать процентов дал, дьявол. И риска, сказал, никакого: придет, мол, да спросит, кому надо.
— Кто вам приносил деньги?
— Дак откуда я знаю? Черный такой. Ну и… обыкновенный…
Она нервно пошевелила в воздухе пальцами.
— А прежде вы его видели?
— Видела где-то, не припомню.
— А вы вспомните.
Тетка тупо посмотрела на плафон, белевший над дверью.
— Худощавый, обыкновенный такой. Одет прилично, ничего не скажу. И трезвый — это точно. Пьяных я издаля чую.
— За такие деньги можно бы и запомнить.
— Дак разве в этом дело? Братик и Братик — мне-то что? Придет, узнаю же. Его «зелененькие» — ему и рубли, без процентов, конечно. Тут без обмана.
— Кто такой Братик?
— Какой Братик? А-а! Дак кличка, должно быть. Только это ведь сегодня Братик, а завтра, глядишь, Сестрицей обзовется. У них этих кличек что греческих «македонок» в базарный день.
«Дура ты, дура! — мысленно обругал ее Сорокин. — С кем тягаешься? Говорила бы уж сразу, начистоту».
— Значит, Братика вы не знаете?
— Совсем не знаю. — Тетка с вызовом поглядела на следователя.
— И перепродажей контрабанды вы прежде не занимались?
— Не занималась.
— Откуда же у вас такие деньги?
Следователь вынул из стола большую фотографию и показал ее так, чтобы Сорокин тоже увидел веер из восьми сберегательных книжек, выложенный сверху тремя десятками золотых колец. Женщина вздохнула, достала платочек, высморкалась и снова уставилась на фото, словно там была невесть какая любимая родня.
— А тайна вкладов оберегается государством, — сердито сказала она.
— Трудовых вкладов.
— А тут! Сколько было труда!
Сорокин едва удержался от улыбки. Хотя это было не так смешно, как грустно. Есть ли что-нибудь, к чему человек не мог бы привыкнуть? Труден первый шаг, а потом люди забывают, что дорога, на которую они шагнули, запретная, и совершенно искренне удивляются и даже возмущаются, когда их останавливают.
— Ну зачем вам столько денег? — сказал следователь. — Ведь вы этого не истратили бы за всю свою жизнь. Квартира в коврах, дача есть. А вот детей нет. Разбежались дети от ваших богатств, не это им нужно.
— Машину хотела купить.
— У вас на три машины хватит. Нет, матушка, это — жадность. Поглядите, до чего она вас довела!
— Лечиться-то не дешево, — сказала тетка, не сводя со следователя испуганных глаз.
— Лечение у нас бесплатное.
— А путевка на курорт сколько стоит?
— Теперь не будет ни путевки, ничего. Все у вас конфискуют.
— Почему все-то, почему? — истерично закричала она. — Тут и мои деньги, кровные, заработанные!
— Сколько вы зарабатывали? Сто десять?
— Семь лет работала. Сколько будет за семь-то лет?
— А разве вы ничего не покупали за это время? Как же вы жили? Вот и посчитайте, какой ущерб нанесли государству.
«Ат-та-та! — подумал Сорокин. — Моралист, неисправимый моралист. Таких, как эта тетя, перевоспитывают страхом, а не убеждениями. Пилюли помогают только вначале. Если болезнь запущена, без хирургической операции не обойтись. Да и в самой ли тетке дело? Она носитель инфекции. Социальной инфекции. Ее надо изолировать, не тратя времени на нотации. Чтобы не заражала других жадностью, обманчивой верой в возможность легкой жизни за чужой счет. Есть, наверное, такой вирус, вызывающий ненасытную жадность. Должен быть. Иначе откуда эта болезнь души человеческой?»