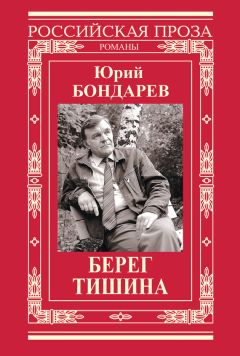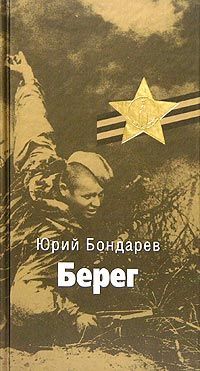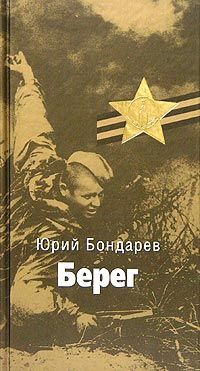– Лейтенант Княжко! – излишне оживленно проговорила Галя, все теребя, лаская притиснутую к подбородку кошку. – Могу я взять ее в медсанбат?
– Ну зачем вам какая-то немецкая грязная кошка? – сказал Никитин, но его заглушил рокочущий наигранным возмущением бас Гранатурова:
– Эту замухрышку? В медсанбат? Доходяг уважаете?
Он поднялся из-за стола, скрипя сапогами, подошел к Гале, возвышаясь над ней, отчего сразу сделалось тесно, неудобно от его громоздкого роста, от его наклоненного сверху смугло-матового лица, окаймленного косыми бачками, от его сочного голоса:
– Да бросьте ее к дьяволу, Галочка, еще блох наберетесь! Нашли, ей-богу, паршака, последнего одра царя небесного, смотреть не на что!
– Так вы разрешаете или не разрешаете, лейтенант? – спросила Галя, глаза ее потухали, а пальцы медленнее и медленнее поглаживали, копошились в дымчатой шерстке кошки, и Никитин, сердясь и досадуя на молчание Княжко, поспешил сказать:
– Возьмите ее и не спрашивайте, если она вам нравится.
– А я говорю – бросьте паршивого блохаря, он вас заразит, – ласково загудел Гранатуров и жарко сверкнул зубами. – Завтра мои разведчики – хотите? – пять, десять, двадцать самых породистых в вещмешках со всего города принесут.
– Серьезно? Двадцать? А можно сто, товарищ старший лейтенант?
– Только прикажите – и все будет выполнено. Сотня разных немецких мурок будет у ваших ног, Галочка! Разведете их в медсанбате, и от мышей одни хвосты останутся.
Она посмотрела исподлобья вверх, на склоненного к ней Гранатурова, на его знойно-ослепительные крепкие зубы, торопясь, выпустила на пол кошку, сказала с гримасой гадливой неприязни: «Да перестаньте же паясничать!» – и, порывисто запахивая плащ-палатку, вышла в темный коридор, наполненный сонной духотой, бормотанием спящих солдат. Никитин пошел за ней и молча проводил ее до двери, затем по лужайке двора к калитке, мимо неподвижной фигуры часового, окликнувшего сквозь оборванную зевоту: «Лейтенант?» Месяц еще не взошел, лишь стояло маленькое зарево на востоке за парком позади кирхи, просачиваясь меж ветвей сосен, и на улице, безмолвно ночной, тихо осиянной оранжевым переливом брусчатника под теплым заревом, в тени низкой ограды, пахнущей водянистой свежестью сирени, он еще раз предложил:
– Я доведу вас до медсанбата?
– Ни в коем случае. Я дойду одна. Я хочу одна. Ну скажите – кого и чего мне бояться?
Она, поворачиваясь, придвинулась к нему, и необычная в этой застывшей тишине ночи близость ее лица, разительность белой щеки и черного крыла волос опять больно напомнили что-то Никитину, то, чего не было, но могло быть, и это «что-то» звенело в нем тоненьким колокольчиком, словно стоял посреди каких-то далеких лунных переулочков с тенями от деревянных заборов, пахнущих впитанным за день теплом, перегретыми солнцем досками и сыростью апрельской земли в подворотнях. Он молчал, справляясь с мучительно-сладкой спазмой в горле, которая мешала ему сказать последнюю фразу: «До свидания, приходите к нам, на Гранатурова не обращайте внимания», – и по отблеску ее белков уловил: она смотрела через его плечо на красновато теплеющий восход месяца за вершинами сосен позади кирхи.
– Какая ночь… Помните? «И звезда с звездою говорит…» И там еще чудесно: «Тишина, пустыня внемлет богу…» – сказала Галя шепотом. – И как далеко мы от дома… И как все грустно. И как все глупо со мной, в конце концов!.. Ведь вы не можете мне ничем помочь, правда? А я никогда не знала, я злилась, я смеялась над этим. Как глупо, господи! – Она подергала тесемки плащ-палатки. – Но ничего, лейтенант, это отвратительно, но я справлюсь, я справлюсь, буду укрощать плоть, голодать, как монашенка, и по утрам окатываться холодной водой… И худеть на черном хлебе. И стоять на коленях. Правда, меня с детства не научили молиться, вот беда!.. Что ж я буду делать? Что же тогда делать? Влюбиться назло в Гранатурова?
Она засмеялась странно, с горькой ожесточенностью, и в смехе этом, во вздрагивающих бровях ему показались слезы, но ее близко светившие из темноты глаза были сухи, горячи, пытались почему-то смеяться над тем, что не имело права быть смешным, а было неожиданностью, от которой не умирают, нелепостью, не случавшейся с ней и случавшейся с другими, чего она даже не могла представить раньше по отношению к себе.
«Зачем она так прямо говорит со мной?» – подумал Никитин, стесненный ее уничижающей откровенностью, ее насильным сквозь слезы смехом.
– Я этого не понимаю, – сказал Никитин.
– Что понимать? Для чего? Разве это нужно понимать? Ох, какую ересь и чепуху я вам наговорила, лейтенант, – сказала она, запрокинув голову. – Сама я виновата… Идите играть в карты. Это мужское дело важнее всякой женской чепухи. Спокойной вам ночи, Никитин.
– До свидания, Галя. Приходите к нам завтра.
– Не обещаю, лейтенант. Возможно.
Никитин слышал, как зашуршала по ограде плащ-палатка, стала смутно удаляться под нависшей над тротуаром сиренью, и, отчетливо и звучно отдаваясь, застучали по каменным плитам каблучки сапожек. И он закрыл калитку, уже обеспокоенный тем, что могут подумать о его отсутствии, подошел по узенькой в траве дорожке к часовому. Тот переминался около дома, одолеваемый дремотой, рот его раздирала необоримая зевота, доносилось мычание, лающее покашливание; Никитин сказал тоном приказа:
– Часовой! Выйдите сейчас на мостовую и на всякий случай постойте там минут пять, посмотрите, пока врач Аксенова до перекрестка к медсанбату не дойдет.
– Ясно, товарищ лейтенант, – откликнулся часовой и, переступая в траве, крякая, забормотал дремотно: – Эх и ночь, звезды-то высыпали, как у нас в России, и месяц всходит. Не для солдат эта ночь, разные мысли в голову лезут…
– Что? – спросил Никитин.
– В такую бы ночь по деревне гулять. Девчата поют, а в полях тихо, только коростель дергает… Домой бы, товарищ лейтенант! – мечтательно заговорил осевшим после долгого молчания голосом часовой. – Вот стоял и думал: скоро, кажись, должна кончиться, шутка ли? В центре Германии мы, а домой когда? Эх, какой красавец на небо-то всходит, – опять сказал он, восхищенно глядя на широко светлеющее и багровеющее зарево над деревьями. – Весна-а… Домой бы, домой…
«Да, да, мы в Германии, и сейчас весна, – подумал Никитин впервые за эти дни вроде бы полностью ясно и осознанно, подхваченный молодым пульсирующим током радости, облегчающим, как счастливые детские слезы, опустошением. – Да, да, конечно, весна, и война кончается!»
Месяц всходил левее силуэта кирхи, показался из горячего бездымного пожара над соснами, отраженно вспыхнул в высоких стеклах колокольни, одна подставленная месяцу каменная стена посветлела, выступила из глубокой тени ограды, и улицы налились прозрачной молочной синевой, еще более загадочной, сгустившей темноту парка, тонкие голубые полосы пролегли по конькам соседних черепичных крыш – и спящий двор, где стоял Никитин, лужайка перед домом, песчаная тропка до самой калитки, прочерченная длинными тенями, застыли под месяцем в неподвижной прохладе травянистого воздуха.
«Ведь я не ранен, не убит, и моему взводу, несмотря ни на что, просто повезло в Берлине, а остальное – пустяки. И все хорошо, все отлично, и вот весна в Германии, и скоро конец войны, и как прекрасна эта лунная ночь в немецком городке, и мне двадцать лет, и все еще будет, все, чего не было…» – подумал Никитин с тем прежним сладко и больно зазвеневшим тоненьким колокольчиком в груди, какой ощутил он возле калитки, провожая Галю, чувствуя сухой блеск ее глаз на своем лице.
Это ощущение прилива молодости, прощающей доброты ко всему, похожей на рвущуюся из души нежность, счастливое ожидание чего-то нового, что было когда-то с ним в золотой поре детства и должно быть опять предвиденно и скоро, это ощущение ожидания еще не свершившегося в его жизни, томящая готовность к предопределенному войной – неизведанному и радостному – возникало в нем с особенной силой при передвижении в горящие города, незнакомые, не до конца разрушенные, залитые по крышам домов заревом, с отсвечивающими красным булыжником мостовыми под колесами орудий, или когда через мелкую сеть дождя размыто проступал в туманце на опушке влажного леса одинокий дачный домик, где, казалось, кто-то жил ничем не измененной, влюбленной верой и в нерушимое прошлое, где были молодые прекраснолицые женщины и где в блаженном тепле, ласковом уюте могли встретить и полюбить его.
И под бегущий лепет дождя по капюшону, под чавканье грязи, под всасывающие звуки орудийных колес ему представлялся давний детский сон: какой-то фантастический поезд в золотистой, затопленной закатом степи идет меж густых трав, а он один в чудесно озаренном лиловыми лучами вагоне, испытывая нечто белое, светлое, чистое, стоит у раскрытого окна на душистом ветерке, видит эту совершенно сказочную, неземную, пустынную степь, огромные и нечеткие в первозданной гуще трав шары желтых марсианских цветов, видит ее глубоко дымящиеся желто-пепельным закатом горизонты с очертаниями таинственных городов на розовых берегах заросших пальмами рек, влекущие таким обетованным обещанием приближенной радости, что ему хотелось долго и сладострастно плакать тогда. Такой степи никогда не было в реальности, и он не помнил, когда снился этот сон. Но он чувствовал его, как неясное в звенящее в нем воспоминание чего-то несбывшегося и счастливого в его жизни.