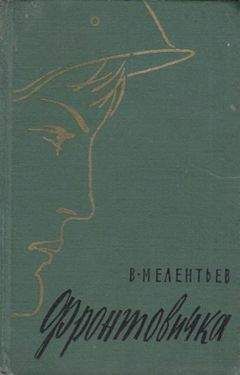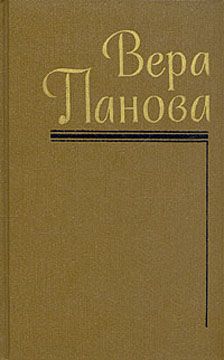Ну, тут надо сказать, что и мои-то любушки временные не больно мне по душе пришлись. Как подумаю, кто их миловал, сколько губ они перепробовали, так, скажи, от души воротит. Я поначалу такую же тактику применил, все со смешком, с подковыркой, дескать, я тебе одолжение делаю. Но, гляжу, одна выгнала, другая матюков в спину натыкала, а третья и к воротам не пустила. А на сердце-то первая моя разлюбезная, мной только целованная, ну, скажи, как хорошая роза на перегное, так и расцветает. Я уж и так к ней подлаживаюсь и этак — ни в какую. Молчит, только плечом поводит.
И вот, Викторовна, скажи, какой наш брат мужик паршивый. Как была моя-то в девках, нетронутая, так ни один из парней к ней вроде и не пристраивался. И сопернички, правду сказать, легко отстали. Без злобы. Ну, там покрутится, может, до ворот проводит, а так — без особого внимания. А тут, как узнали, что она со мной погуляла — сам же дурак стоеросовый в прошлые времена от превеликой гордости растрепал, — так возле нее колом не прошибешь. Ходят, в глаза заглядывают, всякие посулы говорят.
Я как увижу это, так у меня все внутри переворачивается. Как же это, думаю, так? Мою и кто-то другой приголубливает. Днем еще ничего. Старики меня гоняют, покоя, роздыха не дают, а как лягу, ну, не могу спать. Вьюном по сеннику вьюсь, как червяк под лопатой извиваюсь. Как представлю, что у нас с ней было, как подумаю, что в этот же самый час такое же у нее с другим идет, веришь, Валя, волосы кровью наливаются, дыбом встают, до подушки не дотронешься, а в затылке, как, скажи, огнем кто жжет.
— А… в затылке?.. — испуганно вскрикнула Валя.
Старший сержант будто впервые увидел ее, уже лежавшую на животе, с аккуратно разведенным по обе стороны бедер снаряжением. Даже в зеленоватой темноте хорошо были видны ее широко открытые, испуганные глаза, реденькая челочка. И все ее тонкое девичье лицо казалось таким жалким, тронутым такими горестями, углубленными неясными тенями, морщинками, что Осадчий запнулся и подумал: «А может, не стоит бередить ей душу?» Но потом решил: «Стоит!» — и кивнул головой:
— В затылке. Жжет — и удержу нет.
Воспоминания опять нахлынули на него, и он, увлекаясь, заговорил все тем же, необычно чистым для него, почти свободным от привычных словечек языком.
Валя придвинулась ближе и, заглядывая ему в лицо, подперла голову ладонями.
— И вот тут я, Викторовна, прямо-таки с ума сошел. Драться начал. Как увижу кого с разлюбезной моей, так драться. Ну, раз побил, другой раз побил, а потом меня волтузить начали. Ободранный хожу, побитый, в синяках, а дома еще отец подбавляет. Как чуть что не по его, так сейчас ремнем и смажет, а то и просто затрещину влепит: «Не порти чужую жизнь, не лезь, куда не просят». И смех и грех. Ведь здоровый парень был, а отцу поначалу не перечил. Молчал. А потом до того дошел, что и на него с кулаками полез. А он мужчина крепкий, не мне чета. Это я в детстве глотошной болел, думали, не выживу, и потому по сравнению с отцом или с братьями вроде недоросточком вышел. Так вот и про это забыл. Полез с отцом в драку. Почитай часа два с ним, как два сохатых, толклись. Морды в крови, тело ноет, дышим так, что, наверно, на перевале слышно, а не покоряемся. Старших братьев не было, так мать вокруг нас бегает, то плачет, то озлится и кого попало — то меня, то отца — палкой, которой всякую рухлядь перед зимней закладкой выбивали, дубасит. Бьет, бьет, устанет и давай в голос реветь.
Соседи, правда, поглядывали, но решали так: двое дерутся — третий не мешайся. Не убьют, дескать, друг друга, а раз так, что ж… дело семейное. Додрались мы, Викторовна, до того, что оба на ногах стоять не можем.
Растащила нас мать, приголубила палочкой, а мы и отругаться не можем, сипим только, да и все. К вечеру братья сошлись. Было меня не убили, да отец не дал: наше, говорит, дело. Сами разберемся. Ну, мы пока лежали, мать все время пропадала. Потом стала спрыскивать меня святой водой — разжилась где-то. Выскребся я после этакой драки на улицу, а на меня все пальцем показывают и смеются. Как же меня только не называли: и прибитком, и порышом, и семискульным — это у меня на морде столько шишек повспухало, — и еще пообидней. Может, потому, что много уж слишком прозвищ понадавали, ни одно так и не привязалось. Да…
Затылок у меня после драки вроде прошел, волосы поулеглись, но расчесываться, однако, больно было, так кудлатым и ходил. А на сердце лег тяжелейший камень и давит. Это правду в песнях поют, что, дескать, камень на сердце. Я сам такой носил. И от того камня стал я как будто порченый. И с лица спал, и умом тронулся. Что ни скажут сделать — забуду. Начну работать — брошу все, уставлюсь в одну точку и стою, как баран. Отец махнул на меня рукой, кряхтит, а и за меня и за себя воротит. И вижу я это, а сам думаю: «Ну и пусть, пусть. Раз я никому не нужный…»
Валя вздохнула и закрыла лицо руками. Осадчий не видел этого. Он смотрел в чащу леса, где медленно кружили нечеткие, смазанные тени от деревьев, — над близкой передовой стали взлетать осветительные ракеты. Движение этих теней, бесшумное, призрачное, чуть освеженный вечерним холодком, но все еще застойно-пьяный воздух, неумолчный, натруженный гул самолетных моторов, который как бы заглушал истеричные автоматные трели, — все входило в души и делало их чуткими.
— И вот в такой час мать меня и уговорила сходить к семейским. У нас, в наших то есть местах, церквей или, скажем, молелен почти что и нет. Народ у нас все больше ссыльные, золотишники, таежники — крутой народ, тертый, до бога не очень ласковый. А вот у семейских, это у староверов нашинских, у тех всё чин чинарем — и молельни, и святые, и все такое. Ну, скажи мне мать, что лезь ты, Андрюша, в преисподнюю и достань хорошую сковородку, которую грешники лижут, я б в тот час полез бы. Мне ведь все равно было. Пошел я к семейским. Они недалеко жили. Село у них богатое, народ они справный, сытый. Да и то сказать, табаку не курят, вина не пьют, чего ж им болеть-то? Ну, волховали надо мной какие-то там ихние святые. Спрыскивали и с уголька, и со святой лампадки, и еще чего-то делали, а я говорю те слова, что они мне подсказывают, а сам думаю: «Ну и пусть, ну и пусть. Никому я не нужный».
До того я, Викторовна, вбил эту блажь в свою постылую голову, что на второй день ходки домой решил: чем так маяться — лучше сгинуть. Иду и приглядываюсь, куда свою ненужную жизнишку сунуть. В ту ночь даже костер не разжигал, может, думаю, сонного либо медведь задерет, либо рысь обласкает. Так нет же, медведь в ту пору сытый, да он и голодный на человека в редкости нападает, а рыси, как назло, не попадалось. Встал я на третий день и пошел тропой. А красота кругом такая, Викторовна, что вам, людям российским, даже в самом расхорошем сне не приснится. Тайга кругом чистенькая, будто выметенная, подстилочка в ней сладкая от ягоды всякой, кедры, как, скажи, в театре каком заграничном, в высоту уходят, лиственницей так пахнет, что аж голова кружится.
А мне, понимаешь, не до красоты. Я себе другое место выбираю и выбрал под конец. Тропка голец огибала, что как чертов палец небу грозился, а под тем пальцем каменья осыпью накатились и речушке дорогу-то и преградили. Вода рассердилась, бьется и через ту запруду вниз кувырком летит. Шум стоит глухой, сердитый, а в струйках, понимаешь, птички купаются. Серенькие, юркие. Нырнет в воду — и пропала. Потом опять появилась. И шум этот, и птицы эти совсем меня с толку сбили, и полез я на тот голец. Лез и думал: «Сигану вниз, на каменья, и — дело верное. Не разобьюсь, так утону». Сам, понимаешь, не в себе, а все ж таки примечаю: здесь до меня кто-то прошел. И неумелый. Потому и осклизи на траве есть и заломки на кустишках. И вот что смешно: ведь умирать же лезу, а как увидел следы, так ружьишко свое все-таки из-за плеча на руку перекинул. Может, дескать, обороняться придется — в тайге иной раз с лихим человеком встретиться не диво. Особенно в такую вот предосеннюю пору. Видать, жизнь из меня не насовсем вышла.
Да-а. Ну, поднялся я на приступочек такой, снизу он вроде и незаметный был, осмотрелся и встал. Стоял, стоял, глаза протер, головой, как оглушенный, помотал и опять смотрю и думаю: «Ну вот, Андрюшка, и готовый ты. С ума начисто спятил». И глаз прикрою и другой зажмурю — нет, не проходит наваждение, сидит на той приступочке моя разлюбезная, спиной к гольцу привалилась и смотрит на меня жестокими, сухими глазами.
Долго мы молчали, друг на друга глядючи, но первый, однако, я не выдержал. «Ты?» — спрашиваю. «Я», — отвечает. «Чего ж ты тут делаешь, на верхотурье-то?» — «Да вот тебя, дурака малахольного, ожидаю». Я даже вспотел разом и не то что говорю, а вякаю: «А чего ж ты наверх-то влезла?» — «А чтоб тебя не проглядеть, отсюда больно шибко видно». Огляделся я и понял: с того гольца вся-то тропка на полдня дороги просматривается.
Опять мы молчим. А у меня, Викторовна, в сердце камень-то мой прямо жерновом кружится, и трет, и мелет, и скрипит. В голове тоже круги какие-то кружат. Вот тут я и теперь толком не знаю, что произошло. Помню, что закричал я, а уж как очнулся, голова у нее на коленях, глаза ее, как электрические, надо мной висят, и слова она выговаривает такие необыкновенные, что у меня волосы опять кровью наливаться стали. Но глаза у нее уже не сухие, а такие…