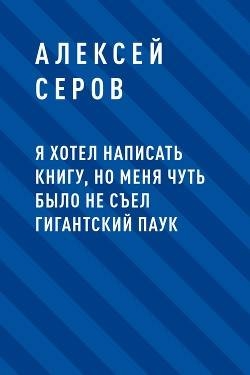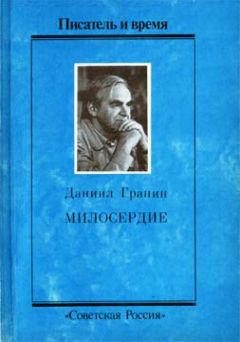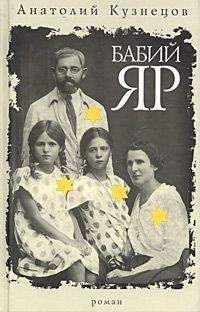путь с момента отправления на СВО так и остался для меня загадкой.
В транзитной камере СИЗО-1 г. Екатеринбурга, ожидая отправки в леса Верхотурского уезда, я познакомился с одним замечательным человеком, который, напротив, покинул учреждение, в которое я направлялся, и этапировался в г. Тюмень на пересуд.
Он, как и я, проиграл в свое время апелляцию, однако, уже находясь в лагере, сумел в суде кассационной инстанции отменить приговор.
То есть он сделал то, что планировал сделать я.
Более того, человек этот был осужден по той же самой статье, что и я, в схожих обстоятельствах.
Разумеется, все это вызвало у меня живой интерес.
Неделю мы сидели с ним в этой «транзитке», ожидая этапов, и неделю я консультировался у него по самому широкому спектру вопросов.
Одним из наиболее ценных советов, полученных мною, был подойти в лагере в библиотеку, спросить того-то и сказать заговорщическим шепотом, что я от того-то…
«Ты знаешь, потрясающий дед… Это он мне написал кассационную жалобу. Все по полочкам, ссылки на пленумы Верховного Суда, все прецеденты… Все, короче, как надо… Он на этом деле руку набил».
Позже, уже в лагере, я узнал, что руку дед набил до того, что, защищая себя самого, он через все инстанции увеличил себе срок с трех лет до одиннадцати.
Le professional.
Но это я узнал потом.
А тогда, едва обустроившись в лагере, после того как подняли с карантина, выйдя на работу на «швейку», я, затаив дыхание, проник в библиотеку, желая лицезреть великого сутяжника, знающего все бреши в законодательстве РФ.
Библиотека была пуста.
В ней пахло книгами, а от стен веяло мудростью веков.
Со стены на меня смотрел Лев Николаевич, под ним на полке красочно пестрели саги про ментов, бандитов и Чечню, ниже скромно таились фолианты русской классики, а за столом перебирал формуляры мохнатобровый старик, бросивший на меня холодный взгляд.
Я приблизился к нему и, благоговея, стянул с головы «феску» [5].
Кажется, даже чуть-чуть поклонился.
Возможно, если бы он смотрел на меня дольше, я бы даже сделал реверанс или книксен, но до этого не дошло.
«Здравствуйте», — сказал я.
И назвал его по имени-отчеству.
Из-под бровей снова сверкнул холодный взгляд.
«Хотелось бы привет вам передать от…»
Дед оживился, и брови его раздвинулись, как свинцовые тучи, открывающие солнце после летней грозы.
Далее у нас состоялся «сутевой разговор», и мощный старик изъявил желание ознакомиться с моей «делюгой».
Я вручил ему свой приговор (копию апелляционного определения я ему дать не решился, ибо она была у меня в одном экземпляре, а приговоров было два) и распрощался.
На «швейку» я летел, окрыленный запахом свободы.
Мое дело в надежных руках, «касатка» уже, можно сказать, выиграна, и надобно думать о мирских делах на свободе.
Но что-то пошло не так.
При следующем визите я убедился, что дед категорически не желает разговаривать со мной в присутствии третьих лиц.
Оказалось, что незадолго до моего прибытия в лагерь библиотекарь устроил в этом казенном учреждении юридическое бюро и вместо того, чтобы нести темным массам свет мировой литературы, строчил для половины лагеря разного рода ходатайства, жалобы и бог весть что еще.
Своей бурной деятельностью дед привлек внимание администрации, и в чертоги книжного царства явились, топая берцами, люди в синей пятнистой форме.
Адвокатская палата была разогнана вместе с дедом, Кацем, Михельсоном и сыновьями, закрыта, а на место мощного старика был поставлен врач-нарколог.
Врач-нарколог метил некогда в главврачи и находился в полушаге от цели, когда был взят за руку карающей дланью российского правосудия.
У врача-нарколога была женщина, которую требовалось кормить и одевать.
Кормить он ее мог обещаниями, что завтра его назначат главврачом — и жизнь станет сахаром, но одевать ее в эти обещания он не мог, а поэтому выписывал нужные справки наркоманам и алкашам для прохождения медкомиссий и получал за это вознаграждение, пусть и не в твердой валюте, но достаточное для того, чтобы сесть.
Но в душе он уже был состоявшимся главврачом.
И, как истинный российский чиновник, оказавшись назначенным заведующим закрытой библиотекой, он принял единственно верное решение — ничего не открывать и впредь, дабы чего не вышло.
Но, увы и ах для незадачливого служителя разом двух богов или муз, он не учел одно обстоятельство.
Зэки — одна из самых читающих категорий народонаселения.
Зэки готовы работать 12/7 на швейке или пилораме и не роптать.
Но, оказавшись оторваны от «Девушки с татуировкой дракона», зэки начали проявлять недовольство.
Администрация заволновалась.
Врач-нарколог-библиотекарь был изгнан, а дед стремительно возвращен из опалы.
Он снова сел за свой стол и вернул статус народной тропе — «незарастающая».
Но урок пошел ему впрок.
Отныне вся деятельность юридического характера велась им строго конспирологически (а дед знал толк в конспирологии, но об этом чуть позже).
Строго между своими, строго с глазу на глаз и без свидетелей.
Надо сказать, очень нетривиальные задачи в исправительной колонии общего режима.
Побегав так несколько раз со «швейки» в библиотеку, увернувшись пару раз от встречи с инспекторами (одиночное передвижение по лагерю запрещено, а «красного» с собой каждый раз не потащишь), я поставил вопрос ребром: мол, «так и так, о библиотекарь, ну как же мне найти вас в урочный час?».
Подумав немного, дед сказал:
«А знаете что? А приходите-ка вы ко мне на лекцию. В субботу. В 15.00. Там мы чего-нибудь придумаем».
Лекции дед вел там же, где и трудился, в библиотеке.
Иногда, по каким-то своим соображениям, администрация отводила ему помещение клуба.
На лекции собирались все разгильдяи лагеря со всех производств — и больше всего со швейки.
Приходили люди, бесконечно далекие как от геополитики, так и от честного труда на благо ГУ ФСИН и Отечества.
Посещение лекции дарило два часа сиесты в прямом отрыве от производства.
Чтобы это не превращалось в злоупотребление, на лекции иногда приходил какой-нибудь чин и внимательно следил за тем, чтобы общественность не спала.
Иногда в качестве надзорного органа являлся сержант латиноамериканской наружности (я назвал его сержант Гонзалес). Он был хорош тем, что спал сам и не мешал спать другим.
Сержант Гонзалес любил сиесту.
Лишь временами, когда дед распалялся (а дед искренне любил свои лекции не менее страстно, чем сержант Гонзалес сиесту) и заводился, а его брови от напряжения эмоций вставали дыбом, сержант Гонзалес просыпался и кричал с заднего ряда: «Э, дед, давай потише!»
Вообще, дед был равнодушен к