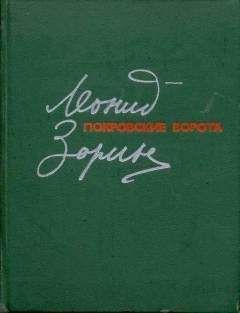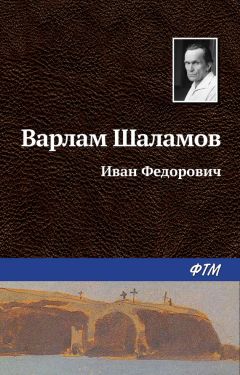Самоходки марки СУ-76 автозавод действительно изготовил. Но это лишь половина дела: там же, на автозаводе, комплектовались и экипажи этих боевых машин. И на фронт нас могли отправить только после того, как полностью будет укомплектована воинская часть. И не только укомплектована, но обучена, побывает на стрельбище, а экипажи машин притрутся друг к другу.
Уезжало, как правило, 20 боевых машин. Это полк. В полку четыре батареи. В каждой батарее пять СУ-76. Экипаж самоходки из четырех человек. Командир машины — по штату офицер. Наводчик и механик-водитель — из сержантского состава. Заряжающий — рядовой.
Итак, 20 боевых машин СУ-76 были уже выпущены заводом. В день нашего приезда полк только начал комплектоваться. Прибыли командиры машин — все выпускники Ташкентского танкового училища. Молодые парни, надевшие офицерские погоны, не успели еще увидеть войну. Представляют ее пока что лишь по документальным и художественным фильмам. И вот они-то и поведут свои самоходки в бой.
В новый полк я прибыл с тремя своими однокашниками по Долматовскому училищу. Среди них был старший лейтенант Бирюков Иван Дмитриевич, родом из Вязников Владимирской области. Я подружился с ним еще в Ульяновске. В Долматове мы были с ним в одной роте. Он очень мне нравился: всегда бодрый, жизнерадостный. И почти земляк. Ведь Вязники от Горького — рукой подать. Другие два товарища, Н. Терехов и Г. Емельянов, до прибытия в полк были мне незнакомы. Однако это не помешало нам быстро сойтись. Подружившись, решили жить в одной комнате. А жить нам в Горьком, как было объявлено, предстояло не меньше месяца.
Целый месяц в родном городе! И я уже планировал поездку в Ямные Березники, представлял себе, как встречусь с земляками, с матерью. Видел, как наяву, наш большой деревянный дом, постаревшую за эти три военных года мать... Все это казалось таким возможным и уже недалеким, что я весь был во власти обуявшей меня мечты. А она взяла да и лопнула, как радужный мыльный пузырь.
— Что? В деревню? — грозно переспросило меня начальство, к которому я обратился. — Никаких отлучек! В твоем распоряжении целая батарея. Двадцать человек! И ты должен быть с ними днем и ночью. Ясно?
Я стал было доказывать, что быть рядом и не повидаться с матерью, которую не видел три года и, возможно, больше не увижу, так как уезжаю опять на фронт... что мне хватило бы и суток...
— Вам сказано: никаких отлучек! — прервал меня подполковник. — Шагом марш!
Был он уже немолодой, но здоров и крепок, на фронте, судя по всему, не бывал: на груди ни орденов, ни медалей, ни нашивки за ранения. Я обескураженно посмотрел на него и, взяв под козырек, вышел из кабинета.
Вечером рассказал об этом товарищам. Бирюков всполошился: «Как это так! Значит, и я не съезжу в Вязники, не увижу жену, сына Стасика. Быть этого не может! Я три года дома не был. Пусть этот подполковник, крыса тыловая, знает, я в первое же воскресенье буду у жены! В субботу сяду в вагон и через четыре часа буду в Вязниках».
В разговор вмешался Терехов. Он предостерег нас:
— На подполковника, — сказал он, — обижаться нельзя. Были случаи: ехать на фронт, а в батарее двое-трое солдат отсутствуют. Где они? Никто не знает. А они, оказывается, сбежали, дезертировали, стервецы!
Мы с Бирюковым прикусили языки. Но мысль побывать дома, повстречаться с матерью не покидала меня ни на минуту. Откладывал отлучку из части до удобного момента. Мне казалось, что удобный момент, как бы строго за нами ни следило начальство, выпадет и я в тот же час умчусь в родную деревню. Ненадолго, всего на несколько часов, но съезжу. Я не сомневался, что так и будет, поэтому спокойно стал заниматься делами в батарее. Пять командиров машин, молодые, наивные пареньки с офицерскими погонами, целыми днями были со мной. Жили дружно. Из них больше всего пришелся мне по душе блондин небольшого роста, младший лейтенант Хвостишков Николай Семенович. Курянин. Он мне признался, что пишет стихи. Я прочитал несколько стихотворений и посоветовал автору показать их в редакции «Горьковской правды».
В коридоре редакции, куда мы приехали оба, нам встретился писатель Костылев Валентин Иванович. Мы представились ему, заговорили. Валентин Иванович любезно побеседовал с нами, пожелал начинающему поэту творческих успехов. Встреча с известным писателем Колю Хвостишкова окрылила. Он стал прилежнее и серьезнее заниматься стихами. А какова судьба тех стихов, которые были оставлены в редакции, мы так и не узнали. Пока жили на автозаводе, следили за «Горьковской правдой», ни одного номера не пропускали. Но подборки стихов Н. Хвостишкова в газете так и не увидели.
Дни, проведенные в Горьком, я старался по возможности использовать с толком. Пытался разыскать знакомых. Узнал как-то адрес своей бывшей учительницы Елены Александровны Дивавиной. Более тридцати лет она проработала в начальной школе села Горные Березники. 4-й класс я оканчивал как раз у нее. И именно в том году она ушла на пенсию и уехала в Нижний Новгород. Мы не виделись около пятнадцати лет. И вот я перед ней. На мне офицерские погоны, на груди — нашивка за тяжелое ранение. Конечно, она не узнала меня. Не узнать было и Елену Александровну. Нелегко ей жилось в эти годы. Моему появлению в ее небольшой, скромно обставленной комнате она обрадовалась, принялась угощать чем могла. За столом мы вспомнили Горные Березники, нашу сельскую школу и тот закуток за дощатой перегородкой, где Елена Александровна жила. Весь тот час, что я провел у нее, старушка была весела, подвижна и, казалось, не помнила о своем возрасте. Взволнован был и я: ведь передо мной сидела женщина, которой я обязан многим. И в первую очередь воспитанием чувства любви к Родине. Когда я покидал ее маленькую комнату на втором этаже, она просила меня не забывать ее, наведываться чаще. И я обещал. Но, к сожалению, нас вскоре отправили на фронт. А просьбу «не забывать ее» я, конечно, выполнил: писал ей письма с фронта. И на каждое получал ответ. Ее письма я берег. Вместе с письмами матери. Много раз был в боях, дважды был ранен. Казалось, тут не только о письмах, а о собственной голове забудешь, но письма матери, письма дорогой своей учительницы Елены Александровны я берег. И сберег их до Дня Победы. Сберег все до единого. А скопилось их много. И уж коль в огне войны они остались целы и невредимы, я решил их хранить как память о дорогих мне людях, как память о тех трудных днях. Каждый год в праздник Победы я их читал, рассказывал о них близким. Но... после войны мне довелось жить в городе Спасске. Женился я на той девушке, встреченной в парке, с которой переписывался. Но, к моей досаде, она оказалась совсем не такой, какой я ее себе представлял. Коварная, мстительная интриганка. Дорогие, бесценные для меня письма она выкрала и предала огню. И как я после узнал, уничтожила и все до единого письма, что я присылал ей с фронта. А они были своеобразной боевой летописью полка. Уничтожила память о близких мне людях, живых и мертвых.
Уехал я на родину к матери. Семейную жизнь надо было начинать заново. Тот, кому вторично доводилось заводить семью, знает, как это нелегко.
* * *...Случайно я узнал, что при отправке воинской части на фронт эшелон нам подадут не сразу, что на станции посадки его придется ждать не один час, может, даже сутки. И я решил использовать это время для поездки домой.
О том, что затея эта довольно рискованная, я не думал. А между тем до Ямных Березников более 70 километров. К тому же деревня не на трассе, а в стороне и более 15 километров придется топать пешком. Ходят ли машины по трассе и как часто, я не знал. Могло случиться так, что выйду на трассу, а там ни одной машины. Но желание увидеться с матерью было так велико, что я старался ни о чем худом не думать и стал ждать дня, когда мы оставим обжитое место на автозаводе и всем полком поедем на погрузочную площадку. Я так увлекся своей мечтой, что совсем забыл о строгом предупреждении — не спускать глаз со своих солдат. Видимо, были случаи, когда именно отсюда, с погрузочной площадки, солдаты и дезертировали. Но я в своих бойцах, которых знал целый месяц, был уверен. Хотя и понимал: случись что, с меня голову снимут. Тем более что самого меня в это время здесь не будет... словом, все шло как в той поговорке: «И хочется, и колется, да мать не велит». Жду отъезда, тороплю время. А оно словно остановилось. Вспоминаю о своих обязанностях командира батареи и стараюсь отогнать эти мысли в надежде, что все обойдется.
Наконец вот он, долгожданный день. Всех нас, командиров батарей, вызвали в контору. Выдали документацию и сказали: «Можно заводить моторы и ехать на станцию для погрузки». Слова «для погрузки» я пропустил мимо ушей; в голове одна мысль: сейчас или никогда.
На станции, куда мы пригнали свои самоходки, я говорю Коле Хвостишкову: «Сейчас я еду домой, к матери. Возможно, сутки меня не будет. Остаешься тут за меня. Но о моем отсутствии никому ни слова! Если про меня спросят, скажешь: “Отлучился! Сейчас придет”. И следи за солдатами. Чтоб от своих машин ни на шаг. Ясно?»