— В ней-то и разгадка! — не сдержал улыбки капитан. — И у майора и у того комбата на нижней стороне козырька чёрточки дальномерные были нанесены. По ним на прямой наводке с точностью до полуметра расстояние определять можно Мы все тоже потом козырьки себе разрисовали — с майорского копировали. Покажу тебе свою, когда к свету выйдем, — целая логарифмическая линейка, а не козырёк. Демобилизуюсь после войны — геологам идею подкину: всё же фуражка легче теодолита.
— Сам ты откуда? — полюбопытствовал старший лейтенант. — Грузин не грузин, татарин не татарин…
— Туркмен я, Панов. Из Ашхабада. Слыхал про такой город?
— Это где Каракумы, что ли?
— Знаешь, однако.
— Конный пробег Ашхабад — Москва от вас начинается?
— Точно! Наши ахалтекинские кони шли…
— Товарищ капитан, здесь тропка налево, — впервые за всё время подал голос ординарец Мирошниченко.
И тут же их остановил предупреждающий оклик часового, в котором Комеков узнал повара.
— Свои! — отозвался капитан. — Чего вы тут мудрите? То санинструктора на пост поставили, теперь — повара. Других людей нет? Всё выгадывает старшина, комбинирует, великий комбинатор, дождётся, пока я его самого на пост определю.
— Бойцы утомились, товарищ капитан, — сказал повар извиняющимся тоном, — поспать им надо, сил набраться.
— А тебе отдыхать не надо? А если ты завтра с недосыпу кашу пересолишь или ещё чего учудишь? Санинструктора перевели в мою землянку?
— Перевели, товарищ капитан, но только она… разведчики её забрали.
— Какие разведчики? — не понял Комеков.
— Не знаю. Кажется, наши, из пехоты.
У капитана ёкнуло сердце.
— Чёрт бы вас побрал! — вибрирующим голосом произнёс он. — Всё вам — кажется, толком ничего не знаете! А вдруг это немецкая разведка?
— Наши! — успокаивал повар. — Ещё днём одного приметил…
— Мирошниченко, галопом за старшиной! — приказал капитан. — И немедленно, — ты понял, Мирошниченко? — немедленно разыщите мне Чудову! Я вам не знаю, что сделаю, если не найдёте, комбинаторы!..
Косы доставляли Инне Чудовой массу хлопот и неприятностей. Густые, без малого в руку толщиной и длиной ниже колен, они требовали к себе постоянного и немалого внимания. В суматошной госпитальной обстановке, где распорядок дня не регламентирован и отдыхать приходится как когда придётся, осуществить это удавалось не так-то легко.
Ухаживать за волосами было чистым мучением. Приходилось всячески ухитряться, чтобы раздобыть умягчённую воду, так как от обычной воды они тукснели и топорщились колтуном. Приходилось жертвовать часами отдыха, изобретать сложную систему заколок, чтобы они держались на голове и не мешали при работе.
Инна давно, бы рассталась с ними, хоть и жалко было, а не делала этого лишь из принципа — медицинское начальство постоянно приступалось к ней с категорическим требованием обрезать волосы. Не отличался в этом отношении от своих предшественников и начальник санроты — пожилой сутулый майор медицинской службы с жёлтым лицом, в морщины которого, казалось, навечно залегли постоянные усталость и недосыпание. Он сидел за столом, щёлкал трофейной зажигалкой-пистолетом, пытался сердиться. А Инна стояла перед ним, и видела, как он с трудом моргает слипающимися глазами, и жалела его, потому что людям в его возрасте довольствоваться тремя часами сна куда труднее, нежели ей в её восемнадцать лет.
— Санинструктор Чудова, объясните, почему вы не выполнили моё приказание.
Он чиркнул зажигалкой, задул огонёк, снова чиркнул и снова задул.
— Я уже объясняла вам, товарищ манор.
— Почему другие девушки обрезали волосы, а вы не можете?
— Я бы тоже обрезала, будь у меня мышиные, хвостики. Разве не жалко вам таких волос? — Инна стащила с головы шапку, быстренько выдернула шпильки, роняя их на пол, тряхнула упавшим вниз золотым водопадом волос. Она немножко кокетничала, но врач откровенно любовался ею.
— Как вам удаётся сохранить в них такую пышность и блеск? — спросил он. — Заправьтесь, пожалуйста.
— Я их последний раз кипятком из паровоза мыла, товарищ майор. У машиниста выпросила.
— Здесь, милая девушка, фронт, здесь ни паровозов, ни горячей воды для ваших волос не будет, у нас для раненых горячей воды не хватает… Родные у тебя есть?
— Мама, товарищ майор.
— Как же твоя мама отпустила тебя… такую…
— Я сама уже взрослая. Да и мама у меня — понимающая
— Да-а-а… — задумчиво протянул врач, глядя, как Инна укладывает косы. — Да-да… все мы торопимся стать взрослыми и только потом начинаем понимать, как прекрасна была наша юность… как невозвратимо, безнадёжно прекрасна… Поднимите шпильку… во-он, под вашим сапогом. Что же делать-то будем, а?
— Оставим всё как есть, товарищ майор медицинской службы.
— А требования устава?
— Устав от моих кос не пострадает.
— Положим, — вздохнул начальник санроты. — Вы сейчас косы убрали, но вы и без них очень привлекательны. Вы же по-настоящему красивы, а красоте украшений не требуется. Парни за вами и так ухаживать станут.
— Товарищ майор! — вспыхнула девушка. — Я на фронт пошла не парней искать, а защищать Родину!
— Да-да, — закивал майор, — все мы пошли защищать Родину. Но защищаем мы не абстрактное понятие, и у нас не должно быть тэдиум витэ, говоря языком Овидия и Тацита… не должно быть отвращения к жизни, потому что защищаем мы самое жизнь, право наше любить, радоваться, растить детей…
Рядом ударил взрыв снаряда. Плащ-палатка, закрывающая вход в землянку, вздулась пузырём, пламя коптилки забилось, вытянулось вбок и сорвалось со своего латунного основания. Стало темно, и в ней отчётливо слышалось, как шуршит по стенам осыпь. Ещё и ещё содрогнулась земля, но взрывы на этот раз были значительно дальше и глуше.
«Началось», — подумал майор, зажигая коптилку, — сейчас начнут поступать раненые». Кончиком скальпеля он поправил чадящий фитиль. Испугалась, небось, девушка? Старается не показать, но видно, что испугалась. А кто её, «костлявую», не боится? Вот ему за пятьдесят уже, а кажется, что жизнь и вовсе не начиналась, что всё ещё впереди, и понятно, что это инстинктивный самообман, что впереди— почти ничего не осталось. Молодые об этом не знают — на то она и молодость, чтобы принимать жизнь без берегов и границ, — но место ли этой девушке в мясорубке войны? А кому здесь место? — сам себе возразил врач. — Кому нужны эти лишения, постоянный нервный стресс, постоянный страх смерти? Ей бы вот учиться надо, Чайковского в филармонии слушать, в парк бежать на свидание в модных туфельках, а она кирзовые сапоги надела и стоит здесь, защитница Родины, девочка, ребёнок ещё по-существу. И косы свои отрезать не решается, как будто в них весь смысл бытия. А может быть, она и права, ибо косы — это кусочек её мирного вчерашнего уюта, и все мы вольно или невольно, как якорь спасения, цепляемся за осколки прошлого, хотя и работаем для будущего, для счастья вот таких молодых и красивых, для своего собственного счастья. А молодым — всё мало, санрота их не устраивает, на передовую им нужно…
Орудийная канонада усилилась, её сплошное полотнище уже прострачивалось и рвалось торопливым та-таканьем автоматов.
— Разрешите, товарищ майор? — приподнял кто-то край плащ-палатки.
— Да-да, входите, — сказал начальник санроты. — Что там у вас?
— Бой идёт. Нам ждать, пока позвонят или самим выдвигаться вперёд за ранеными?
— Не надо ждать, отправляйте санитаров. Место для раненых приготовили? Соломы постелили?
— Всё в порядке, товарищ майор.
— Я сейчас тоже приду. Скажите там, пусть побольше воды вскипятят. И дрова перетащат на место посуше. Вам что, Чудова? А-а… можете быть свободны, бой кончится, доложите, что выполнили моё приказание, — ясно?
— «Как бы не так! — мысленно фыркнула Инна уходя. — Всё равно я от тебя в полк удеру — быть такого не может, чтобы своего не добилась, я упорная, товарищ майор медицинской службы!»
Она не хвасталась своим упорством, она действительно умела поступать по-своему, эта маленькая хрупкая девушка с выступающими под застиранной гимнастёркой лопатками, тонкой нежной шеей и своенравным рисунком губ. Она сумела преодолеть отчаянное упорство матери, когда с последнего курса техникума перешла на краткосрочные курсы медсестёр, когда добилась в военкомате направления в действующую армию. Её направили в тыловой госпиталь, но она писала рапорт за рапортом, пока не попала в полевой госпиталь. Тем же путём перебралась в медсанбат и, наконец, в санроту, где тоже не рассчитывала долго задерживаться. «Что вас тянет на передовую? — недоумённо спрашивали её. — Романтика? Ордена?» Она возмущалась, но терпеливо объясняла, что считает это своим долгом. «А в госпитале работать — не долг? Легко здесь?» Она соглашалась, что да, нелегко, но у каждого — своё понятие о долге, свой потолок. Переспорить её было невозможно, хотя в других случаях она легко поддавалась постороннему влиянию, даже в авиаклуб при Осоавиахиме подавала заявление под влиянием одноклассников-мальчишек.
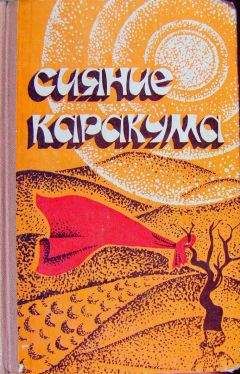
![Екатерина Дмитриева - Александр I, Мария Павловна, Елизавета Алексеевна: Переписка из трех углов (1804–1826). Дневник [Марии Павловны] 1805–1808 годов](https://cdn.my-library.info/books/227994/227994.jpg)



