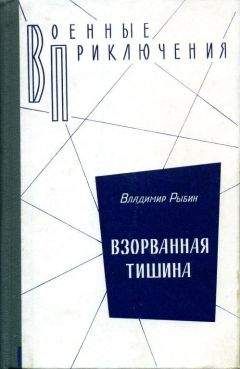Несмотря на полную неопытность в таких делах, Соловьев подумал, что здесь и в самом деле не место мужчине. Комната была маленькая и необыкновенно чистая, аккуратная. Скромный столик с зеркальцем и всякими баночками-флакончиками, белая гладенькая кровать с кружевной накидкой на подушке, небольшой шкафчик возле кровати и еще один шкаф, полный книг за стеклянными дверцами.
— Чистюля! — сказал парень с двойственным оттенком в голосе — то ли пренебрежительно, то ли доброжелательно — и кивнул на другую, раскрытую дверь, за которой виднелась неубранная раскладушка: — Не то, что я. Ну, будем знакомы. Гошка, если угодно.
— Григорий, что ли?
— Это был бы Гришка, а я, стало быть, Георгий. Только, увы, не победоносец. — Он повернулся к девушке и воскликнул умоляюще: — Верунчик, не позорься. Чего стоишь, как таксист в обеденный перерыв! Накрывай стол.
— Да ничего, — смутился Соловьев, отступая к выходу. — Да и некогда мне…
— Надеюсь, вы к нам еще заглянете?
— Да что вы, зачем же?
— Чтобы занести книжку, — серьезно сказал Гошка.
Соловьев покраснел, только теперь заметив, что все еще держит в руке подобранную под окном книжицу.
Не помня себя, он сбежал вниз по лестнице и в подъезде столкнулся с Головкиным.
— Я уж думал: ты тут прописался.
Соловьеву это показалось страшно смешным, и он расхохотался так громко, что друг удивленно посмотрел на него.
— Смотри не ходи сюда больше…
Они пошли по улице, думая каждый о своем.
— Не больно улыбайся, а то на тебя все женщины оглядываются, — сказал Головкин.
— А ты знаешь, сколько у нее книг?!
— Знаю.
— Откуда? — насторожился Соловьев.
— Так видно ж: тебя что-то так поразило, что заговариваться начал. Я и подумал: наверно там много книг.
— Зачем их столько одному человеку?
— Наверное, для того, чтобы из окна ронять.
Соловьев испуганно посмотрел на друга.
— Это не она, — горячо сказал он. — Это у нее такой брат: большой, а глупый.
— Да ты не волнуйся.
— Чего мне волноваться?!
— Вот и я говорю: зачем одному человеку много книг? Все равно он их не прочитает. А прочитает, так забудет. Впрочем, погоди-ка. Каждому в отдельности много не нужно, а вот всем вместе, пожалуй, требуется именно много. Именно во множестве — мудрость человечества. Один человек слаб, он склонен обо всех судить по себе: если я не прочту, то и другие не осилят, то, стало быть, зачем они? Верно я говорю?
Соловьев молчал, понимая, что друга уже понесло и что теперь он будет говорить, пока не выговорится.
— Ты никогда не задумывался, почему в мрачные времена отдавались приказы жечь книги? Потому, что у кого-то, обремененного властью, возникал этот же самый вопрос: «Зачем столько книг, если я не могу их прочесть?» А подразумевалось: «Если я не могу, то как смеют другие!..»
— Что ты хочешь этим сказать? — растерянно перебил его Соловьев, занятый своими мыслями и мало что понявший из рассуждений друга.
— Нет, пусть будет больше книг, как можно больше! Информационный взрыв — это миф, признак паники властолюбивого индивидуума перед морем знаний. А ведь знаний и должно быть море. Только переплетаясь в новых и новых интерпретациях, они способны порождать открытия. — Он вдруг остановился, ухватил Соловьева за рукав и, побледнев от волнения, произнес громко и высокопарно: — Мысль человеческая, что красная девица, заточена в темницу страниц. Освободить ее может только человек, открывший книгу, только другая мысль. Как в сказке о заколдованной царевне, которую можно разбудить лишь поцелуем…
Мимо проходили люди, снисходительно оглядывались, как на пьяных. Солнце жарило по-летнему, солнце кидало на асфальт ослепляюще белые пятна, по которым томно ползали гибкие тени ветвей. Соловьев глядел на эти тени и все вспоминал невысокую девушку, ее растерянные глаза, ее руки, гибкие, как бы испуганные…
Ночью разгулялся веселый ветер «моряк», принес дождь. Гошка проснулся на рассвете с непонятным беспокойством в душе, встал, поеживаясь от холода, босиком прошлепал к окну, заглянул за штору. Крыша соседнего дома казалась черной от дождя и слабо поблескивала. Ветер играл с одиноким голым тополем, стоявшим посередине двора. В просвете между домами беспокойно шевелились огни порта, и в такт покачиваниям стучали капли по жестяному карнизу. Время от времени ветер стряхивал этот стук и, словно бы скрутив дождь в тугие жгуты, хлестал ими по стеклам, как мокрыми простынями. Это напоминало удары волн о крутые скулы сухогруза.
Гошка вышел на кухню, откуда бухта была виднее, сел на подоконник, закурил. Спать не хотелось, и он все сидел, опираясь босой пяткой о батарею, смотрел на дальние огни и вспоминал море.
Что это такое, море? Читал когда-то фантастическую книжку про живой Океан на неведомой планете, который умел овеществлять самые потаенные мечты космонавтов и тем самым словно бы выворачивал наизнанку людские души. Похоже, что автор не знал нашего обычного моря, иначе зачем бы ему переносить место действия на далекую планету? Наш земной океан это тоже умеет: вьет из матросских душ веревки, какие хочет. Сколько Гошка знал их, которым тошно и скучно на берегу! Хотя в море — какое там веселье! — сплошное вкалывание. А может, автор потому и придумал свой фантастический Океан, что узнал море, поплавав матросом или еще кем? Живой, влекущий и увлекающий Океан? Такого на берегу не придумаешь.
Он закрыл глаза и представил себя у руля, как бывало когда-то. Рядом подремывает «чиф» на своей «собачьей» вахте, курит папиросу за папиросой. На окнах рубки — серые полосы от соленых брызг, стекающих со стекол. Одно стекло поднято, и под ним на палубе мокрое пятно. В этом проеме видны ярко-желтые, в косом солнце, стрелы кранов, за ними — зеленые якорные лебедки на баке и белые, как весенний снег, живые, трепещущие пеной всплески волн. А за ними — синь. До чего же синей вспоминается морская даль! С берега Гошке такой синевы не приходилось видеть.
«Может, в каботаж пойти? — подумал он. И усмехнулся горько: — И в каботаж не возьмут, раз уж даже к порту не подпускают».
Девятым валом нахлынула тоска. Он торопливо оделся и, тихонько притворив дверь, чтобы не разбудить сестру, вышел на улицу. Выложенный разноцветной плиткой тротуар был скользким от дождя. Гошка сошел на асфальт дороги и пошагал вниз к набережной широко и решительно, как ходил, бывало, когда спешил на судно и как совсем отвык ходить в компании своих береговых приятелей.
У стенки морвокзала стояли суда, уцепившись за кнехты толстыми тросами. В их высокие борта, словно поросята-сосунки, тыкались портовые катера, прятались от ветра. От маяка, что стоял на конце причала, был виден длинный мол, отгораживающий бухту. Над молом сплошной белой стеной, быстрой и подвижной, шевелились высокие буруны прибоя. Ветер ритмично взвывал в стальных фермах маяка, в тросах, натянутых, как струны. Ветер раскачивал железобетонную брандвахту с наветренной стороны пирса так сильно, точно хотел вынуть ее из воды и положить боком на асфальт.
У стенки стоял сухогруз «Комсомолец». Возле него похаживали двое пограничников, поглядывали вдоль борта. Это значило, что «Комсомолец» отваливал, что он уже по ту сторону и что кромка пирса для него — государственная граница. Гошка знал, как не любят пограничники, когда возле уходящих судов околачиваются посторонние, и на всякий случай помахал рукой, будто у него там знакомые. Он никого не знал на судне. И очень удивился, когда с высокого бака кто-то помахал ему в ответ.
— Привет! — донеслось сквозь шум ветра.
Теперь он смелее подошел поближе и разглядел матроса Тоню, с которым плавал когда-то на «Кишиневе». Странное прозвище дали этому парню, медлительному увальню с медвежьей силой. Но прозвище привилось, и вот теперь Гошка, как ни старался, не мог вспомнить его настоящего имени, как, впрочем, и фамилии тоже.
— Далеко собрались? — спросил он небрежным тоном.
— Цейлон! — так же небрежно ответил Тоня.
У Гошки защемило в груди: на Цейлоне он не был, этот остров представлялся ему сплошными мандаринно-лимонными тропиками, где всегда солнце, всегда штиль и улыбки длинноглазых красоток.
— Как жизнь на берегу?
— Лучше некуда! — кивнул Гошка и хотел добавить еще что-нибудь такое, от чего Тоня оставил бы свой снисходительный тон. Но тут на судне захрипели динамики:
— На баке, отдать концы! Как якорь?..
И Тоня сразу забыл о приятеле, низко перевесился через планшир, словно хотел дотянуться до воды, и, не выпрямляясь, закричал в микрофон, который тащил на длинном, свернутом в спираль проводе:
— Нормально! До пирса больше метра!
Черно-желтый портовый буксир, со всех сторон увешанный кренделями шин, присел от натуги и потащил судно за корму на середину бухты.