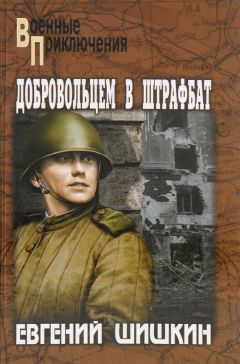Ознакомительная версия.
Федор довольно кивнул головой, вытаскивая из кармана все еще дрожащими пальцами пачку махорки.
— Ловкий ты парень, Лешка. Не подумать с виду-то. При желании ты любую бабу завалить бы смог…
Они вернулись в окопы батальона решительно героями. Оживленные от победительской вылазки, пошли разыскивать комбата с устным отчетом и предметным подтверждением. Но комбата не было. Его уже вообще не было. Капитан Подрельский умер. Малодушной для войны, бытовой смертью. Он стоял на НП под палящим солнцем, с тяжелым обрюзглым лицом и усталыми красными глазами, — и вдруг подкосился и пал замертво от кровоизлияния в мозг. Окружающие попервости и не сообразили, что за принуждение свалило его с ног, поэтому искали след загадочно-бесшумной пули. Но старшина Косарь, снимая с головы фуражку, объяснил, что командира захлестнуло от лопнувших кровяных сосудов. «Шо же он, вовремя-то не похмелился?…» На лицах у всех остались растерянность и сожаление. «Не по-отважному погиб».
Федор и Лешка свой рапорт переадресовали старшине, ему передали планшет и «аусвайс» немецкого офицера.
Косарь по-командирски объявил им благодарность, потом, положа руки на плечо одному и другому, сказал:
— Худо, шо комбатовой холовы у нас теперь нету. Теперь нас хады зараз сомнут. Як щусенков. Подрельский хлыбисто стоял…
Старшина, конечно, не знал, что батальон через несколько часов окончательно поляжет во внезапном бою. Отброшенная немецкая пехотная часть из сломленного наступления будет пробиваться к своим и наткнется на штрафников. Немецкая часть будет впоследствии раздавлена «тридцатьчетверками», но батальон Подрельского фактически перестанет существовать. Однако это Федора и Лешки уже не коснется.
— Помянуть надо комбата, — сказал Лешка, когда уединились с Федором в траншее. — Заодно и наших фрицев «обмоем». Я с офицера вот снял, со шнапсом. Попробовать хоть, чего они пьют, гады. — Он вытащил из-за пазухи плоскую фляжку, стал разглядывать гравировку на стенке: «Zu meinem lieben Bruder Heinrich». — «Моему брату Генриху», написано. И башня нарисована. Эйфелева. Самая высокая. В Париже такая. — Он отвинтил пробку, потянул ноздрей запах и приложился к отверстию.
Федор выжидательно наблюдал, как спазматически движется худая, обнесенная загаром шея Лешки. Потом аж рассмеялся, увидев его покривленные губы, над которыми торчком стал канареечный пушок первых усов.
— Ох и отрава! Затхлым пахнет, — охрипло заговорил Лешка, тряся головой. — Лучше бы у старшины водки выпросить.
Федор очередно приложился к фляжке и тоже неодобрительно отозвался о качествах германского шнапса. Хотя это был не шнапс, а дорогой французский коньяк. Но они коньяка от шнапса не отличали и отведали его впервые.
Скоро от выпитого их благостно разобрало. Они детально вспомнили лесной рейд, отметили промашки. Своевать можно было еще результатнее, чтоб ни один «пердун» не запрятался. Но в конце концов сошлись во мнении, что «ежели тот хмырь и улизнул из танка, рано или поздно попадется им, лопух, или забредет на заминированную просеку…».
В ту минуту, когда немецкий осколочный снаряд вырвется из ствола пушки, наметив на финише траектории одну из траншей русской обороны, запьянелые от трофейной выпивки, породненные боевой удачей рядовые Федор Завьялов и Лешка Кротов ни капли не думали о смерти.
Бабы косили близ леса в длинном Плешковском логу. Косить бы следовало ранее, недели две назад: трава перестояла, уступила солнцу и суховею набольшую соковитость. Но бабьи руки до всего не поспевали дотягиваться, а мужиковых рук — если не брать в подсчет стариков да мальчишек — в Раменском осталось всего девять. Почему нечетно? Так Максим-гармонист вернулся с фронта с культей вместо правой. И навсегда умолкла его озорная двухрядка — запылилась, ссохлась без дыхания певучих мехов. Максим, чтоб не чумить себя тоскою по игре, спрятал ее в дальний угол чулана.
По холодку, в утро, когда трава росисто-мягка, косилось легко и ходко. Теперь листва и стебли обсохли, сделались жестче; воздух полонил зной, к потному лицу липла мошкара, над головой увивался паут.
— Новый ряд, Оль, с того краю зачинай. Навстречу пойдем, — утираясь платком, сказала Лида.
— Сама оттудова начни, — не согласилась Ольга. — Я здесь обвыкла.
Лида хотела что-то сказать, но после догадливо усмехнулась и пошла на другой край покоса — к Дарье.
Бывшие разлучницы, Ольга и Дарья, нынче уже не ссорились, дрожжи ревности не взнимали обоюдного гнева, но находиться в работе предпочитали подальше, врозь.
Умелица в любовных делах, Дарья в последнее время охомутала Максима. Приголубила-привадила всерьез и обещалась ему быть верной «по гроб жизни». Горячим шепотом, с клятвенной дрожью говорила ему: «Ты, Максимушка, прошлого не поминай. Как грязь со стекла: стерли ее — и опять стекло-то чистехонько…» Перед Максимом побожилась Дарья, что и с Федором, коли вернется, никакой любви не тянуть. Свой выбор Дарья объясняла и себе, и бабам с обдуманностью: «Пускай Максим — однорукий, зато молодой, телом крепкий. Девки-то наши безмозглые. Надеются, им с войны рыцаря в медалях придут. Как бы не так! Похоронка за похоронкой, точно галки, летят. Погляди-ка: уж из села на войну забрать некого. А когда она, окаянная, еще кончится? Да сколь обкалечит?… Проживем и без руки. Бог даст, после войны и дитеныша родим. А пока нам вдвоем с Максимом-то не больно много чего надо…» Горькая слеза перехватывала горло Дарье: терзающе-неотступна была память о юродивой дочке, самой голубоглазой Катьке на свете. Она не перенесла голода первой военной зимы. В гробик, под руку Катьке, положили ее верную деревянную подругу куклу.
Ольга не только из-за близости к Дарье отказалась поменять край лога, ей хотелось оставаться невдалеке от Елизаветы Андреевны: вдруг она в передых перекинется словом с бабами, вдруг обмолвится про Федора. Сама вступать в разговор с Елизаветой Андреевной Ольга не смела; до сих пор при встречах кротко здоровалась, тут же опускала глаза и шла мимо. Но теперь расстановка менялась. От незлопамятной Таньки она узнала, что «тюрьма Федьке кончилась» и что он покатил «во солдаты». Такой поворот Ольгу утешно устраивал: за отсидку Федора она виноватила себя, а война, фронт — нет здесь Ольгиной вины и участия! От войны лиха все хлебают. У Ольги тоже отца в окопах убило и старший брат на. флоте под огнем служит.
Осмысливая некое искупление своего прежнего греха, Ольга много раз намеревалась написать Федору на фронт. В уме она уже выстраданно обкатала каждую строчку не излитого на лист письма, однако не знала номера полевой почты. Разузнать номер можно было у Таньки, но такому гибкому пути она противилась. Честней бы в какой-то совместной работе или неизбежном общении примириться с Елизаветой Андреевной, испросить у нее позволения на письмо к Федору и без лукавины узнать адрес.
«Добрый день ли, вечер ли — здравствуй, Федор! Это я тебе пишу — Ольга. Сколько раз уж собиралась тебе во всем письменно объясниться, да все боялась. Неловко мне было к тебе в тюрьму-то обращаться, ведь вышло, вроде я тебя туда и спровадила. Но про тюрьму давай вспоминать не будем. За все прошлое прости меня, не кляни. Кабы знала я, что так выйдет, я бы и шагу из дому в тот вечер не сделала. Теперь-то, уж после времени, могу тебе признаться по совести: не было у меня никакой любви к Савельеву. Так, интерес какой-то девичий да зазнайство. Будто в игрушки поиграть захотелось. А настоящего — не было. После твоего суда я с ним ни разу и не разговаривала. Все с души отвалилось…»
В этом месте письма Ольга сбилась: то ли земляной хохряк попал под литовку, то ли твердый стебель, который требовал двойного усилия, то ли руки сами по себе ослабли и замерли на гладком черене. Упоительной и грустной волной нахлынули воспоминания о вальсе, который она танцевала с Савельевым. В колыхании музыки плывет, кружится Ольга, тянется вверх, приникнув к статной фигуре Викентия, летит на носочках туфель. Лица сельчан мелькают в счастливом круговороте — дух перехватывает! Она королева вечерки, и все ей в ладоши хлопают… Но вот опять, после глубокого вздоха, литовка в руках Ольги пошла мерно снимать разнотравье лога, опять полились ровным внутренним тоном слова наизусть сложенного послания:
«…На него, Федор, на Савельева, зла не держи. Он тебе худого делать не рассчитывал. Нечаянно подвернулся. Да и мертвый он уже. Говорят, его полицаи в плену казнили. Нельзя погибшего дурным словом поминать.
А тех вечерок, которые бывали у нас, уж никогда не повторить. Народу того уже нету. Самый главный заводила, дружок твой Паня, погиб. Лида по нем уж отголосила. Максим вернулся без руки и гармонь свою куда-то упрятал. Да и место наше любимое плясовое заросло бурьяном. А дощатый настил и скамейки разломали и истопили…»
Ознакомительная версия.