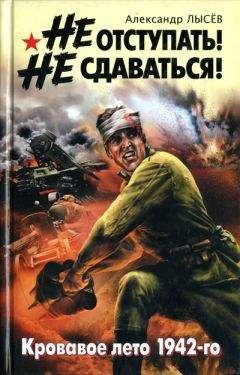«Недоглядели, недоглядели, — кланялись председателю мужики. — Ты уж не казни строго…»
Маленький Митька, стоя возле отца и дергая его за рукав рубахи, спрашивал:
«Тять, а тять, а дядя Никифор враг?»
«Враг, сынок, враг», — отвечал отец, кладя руку на голову сына.
«Тять, а он мне третьего дня от такой кусок сахара дал», — не унимался Митька, разводя руками и показывая, какой величины был сахар.
«Почему он враг? — удивился Митька. Потом сказал с сожалением: — А ведь ты, тять, с ним вместе на германской воевал, мне мамка сказывала. Он ведь добрый, и все, как ни глянь, работает да работает… Тять, за что его так?»
«Враг он, враг, — грустно повторил отец и, беря Митьку за руку, произнес: — Пойдем отсюда, сынок…»
Они уже отошли от дома Никифора, когда по толпе вдруг пронесся шум изумления. Выскользнув из ладони отца, Митька опрометью бросился назад и в мгновение ока оказался у Никифоровых ворот. Дюжий Никифор, стоя в тарантасе, боролся с одним из охранников, выкручивая у него из рук винтовку. Второй охранник барахтался в грязи посреди улицы. Уполномоченный, на ходу вытаскивая из кобуры пистолет, бежал к тарантасу.
Никифор отнял винтовку у охранника, ударом швырнул того на сиденье и, соскочив на землю, стал в воротах с винтовкой наперевес, исступленно крича:
«Не пущу, мое! Здесь подохну! Своим трудом…»
«Подыхай!» — осклабившись, процедил сквозь зубы уполномоченный, нажимая на курок…
Кончилась первая обойма, и уполномоченный, чертыхаясь, торопливо и уже испуганно вгонял в пистолет вторую, когда Никифор, с несколькими пулями в теле, истекая кровью, подполз к столбу ворот и, впившись в дерево ногтями, обернул к толпе искаженное, грязью и кровью забрызганное лицо.
Выбежавший вперед всех Митька стоял ни жив ни мертв. Расширившиеся глаза Никифора были устремлены прямо на него. Митька стоял между Никифором и уполномоченным. Расталкивая всех локтями, пробирался к сыну отец, но прежде чем он схватил Митьку на руки и унес домой, меньшой Егорьев успел увидеть занесенный над головой несчастного приклад винтовки подоспевшего на подмогу второго охранника и исполненные яростного отчаяния и в то же время страдальческие глаза Никифора. Еще секунда — и отец уже был возле Митьки. Но прежде чем его рука закрыла Митьке лицо, тот, услышав глухой звук удара, успел увидеть расколотый череп, мозги и стекающий кровавый след, заливший столб прочно, на века поставленных ворот…
Вспоминая этот случай из далекого детства, Егорьев только сейчас четко для себя осознал, насколько все окружавшее его было изначально жестоко. Он на фронте, здесь идет война, убивают людей, казалось бы, совсем отличное от той, мирной жизни существование, а по сути дела, то же самое. И здесь и там нет покоя, и здесь и там льется кровь, разве что только здесь в больших масштабах. Но разве недостаточно для человека взглянуть хотя бы один раз на насильственную смерть, на сам обряд ее совершения, чтобы раз и навсегда понять все или не понять ничего, воспринимать эту смерть как закономерность в происходящем или возмутиться и воспротивиться жестокости?… Егорьев вдруг понял, что все, чем жил он, есть пустота, за которой все тленно и в которой нет ничего вечного, за которой — тупик, смерть души. Все ограничивается днем сегодняшним, который живется во имя дня завтрашнего, и все совершается кругом во имя этого завтра с таким расчетом, будто бы вся чинимая жестокость тут же исчезнет, как только наступит это завтра. Но завтра все не наступает, а жестокость все усиливается и усиливается, и это светлое завтра не наступит уже никогда, потому что останется одна жестокость. И она, эта жестокость, сожрет и уничтожит постепенно все…
Так что же делать ему, Егорьеву, как воспринимать все происходящее вокруг, в какие политические рамки себя ставить? Ведь если пойти и тут же заявить обо всем, что он сейчас передумал, просто-напросто лишишься головы — в мире прибавится еще одна жестокость. Но и жить так дальше Егорьеву вдруг стало возмутительно. Он почувствовал, что окружающая жестокость давит и угнетает его (стимулом тому послужила война), и, если все так и оставлять как есть, он превратится в орудие этой жестокости. Превратится ли? Не является ли он уже сейчас этим орудием, живя все это время и воспринимая происходящее, а значит и жестокость, как должное, как норму Он же в первую очередь человек, а человек — это душа. И душа понятие не отвлеченное, не независимое. Она прочно связана со всем существом человека, и любые поступки накладывают на душу определенный отпечаток.
Егорьев же все время был уверен в другом: душа — слово, так сказать, чисто символическое, то есть как бы клетка организма человека, и уж совсем неправдоподобно, будто бы душа может существовать после смерти. Но тогда что же человек, что определяет его сущность? Егорьев впервые задумался над этим вопросом и ответа найти не мог.
«Хотя, конечно, можно допустить бессмертие души, наличие Бога, — думал лейтенант. — Но такой подход так непривычен… Но ведь в нем нет насилия, нет жестокости. Так что же: вера в Бога — вот выход?… Странно… Но тем не менее это ведь лучше, чем то, что происходит сейчас… Да, конечно же, какой разговор…»
И вдруг Егорьева ошарашило.
«Но тогда кто же я? — подумал он. — Если я не верил в это, а верил в то, жил в насилии, значит, я сам стал частью этой жестокости…»
И стало вдруг так горько, появилось такое неизвестное ранее чувство раскаяния и печали одновременно, что, устремив глаза вверх, Егорьев с поразительной для него самого внутренней ясностью и осознанием прошептал:
— Господи, да я ведь несчастный человек…
Все с той же удивительной простотой Егорьев неожиданно ощутил, насколько он беден, нет, скорее ограблен духовно, какая полнейшая опустошенность стоит за всем тем, во что он верил и что почитал за истину. А все, оказывается, совсем в другом… Но в чем же тогда?
И снова глаза Егорьева поднялись к бездонной синеве неба. Бог — он все же есть, он правит миром и душой человека. Так, и только так — иначе жестокость приведет в конце концов человека к гибели…
«Но как же тогда война? — снова думал Егорьев. — Это же первейшая жестокость, да еще такая война, как эта…»
— Лейтенант! — раздался рядом голос Синченко.
«Все во власти Божьей, — мелькнуло где-то в подсознании Егорьева, но логика говорила в нем: — Так-то так, но мы еще додумаем и поразмышляем… Ох, Толстого начитался у батюшки на чердаке!…»
Он обернулся к Ивану.
— Лейтенант, — повторил Синченко, — траншеи готовы…
Рота только-только закрепилась на новых позициях, и не успели еще разнести обед по траншеям, как наблюдатели доложили, что впереди показалось густое облако пыли, а еще через некоторое время было сообщено: по дороге движутся на большой скорости немецкие танки.
Полищук приказал всем приготовиться к бою. Солдаты, побросав, кто успел получить, котелки с начатым обедом, застыли в напряженном ожидании на своих боевых местах…
Танки шли быстро, действительно на высокой скорости, облепленные по бортам прижавшимся к броне десантом автоматчиков. Сойдя с дороги, развернулись фронтом и, не снижая хода, пошли на траншеи, приближаясь и увеличиваясь в размерах с каждой секундой…
Егорьев в окружении Уфимцева и Синченко, стоя в окопе, распорядился приготовить к бою гранаты, бронебойщикам определил прицел, с которого следовало открыть огонь по танкам…
Неожиданно, раньше времени рассекречивая себя, дала залп расположившаяся в нескольких стах метрах за позициями пехоты артиллерийская батарея. Снаряды разорвались позади идущих в атаку немецких танков — взяли слишком высоко. Танкисты противника среагировали мгновенно и точно: почти одновременно сверкнули пламенем сразу несколько танковых пушек, и батарея, затянутая дымом и пылью, исчезла из виду на несколько мгновений. Когда дым рассеялся, Егорьев увидел в отдалении, в том месте, где только что была батарея, два перевернутых орудия, третье с отбитым колесом завалившееся на бок, а четвертое выкатывал из капонира расчет.
«Куда они?» — подумал Егорьев, глядя, как артиллеристы, выкатив орудие, цепляют его к передкам, сдерживая бьющихся в упряжке лошадей. «Наверное, позицию меняют», — сам себе мысленно ответил лейтенант.
Однако артиллеристы, закончив свою работу, заняли места на передке и, нахлестывая лошадей, пыля, галопом помчались по равнине. Вскоре, спустившись вниз, к реке, они исчезли из виду.
— Вот суки, смотали! — с негодованием и в то же время с тревогой глядя на Егорьева, сказал Синченко, тоже наблюдавший за действиями артиллеристов.
— Позицию меняют, — вслух, но уже уверенно и твердо повторил свою мысль Егорьев и, повернувшись в другую сторону, стал следить за танками.
Те приближались, и лейтенант, опасаясь, как бы они не проскочили обозначенный бронебойщикам прицел, и к тому же видя, что артиллеристы угнали неизвестно куда, приказал открыть огонь.