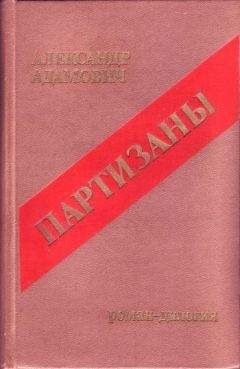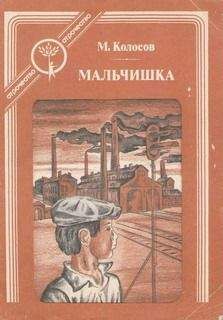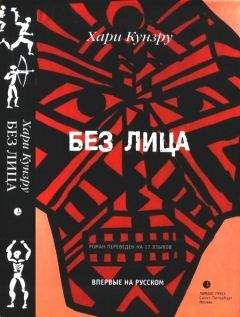Ознакомительная версия.
– Ой, любочки, в комендантском двори партизанский кинь стоит. Хвойницкий дундит: «Бандиты награбили, пьяные прямо на комендатуру наехали и убежали».
Толя незаметно вышел из дома. Телега уже за колючей оградой. Лошадь выпряжена, скучает под стеной. А по шоссе прогуливаются жители – их многовато для такого раннего часа – и засматривают во двор комендатуры. Около подводы толпятся полицаи, немец-часовой держится в сторонке.
Чтобы лучше видеть, Толя полез на чердак.
Осмотревшись, отыскал в доске дырочку от выпавшего сучка и припал к ней глазом. Полицаи отошли от подводы подальше, уступив Фомке право исследовать ее. Коротконогий Фомка, как бес, вертится возле телеги: то снизу заглянет, то на цыпочки встанет, то корзинку тронет пальцем. Полицаи и немцы (немцев уже трое – выползли из бункера) поощрительно хохочут, но сами пятятся. Наконец Фомка осторожно, пальцами обеих рук поднял корзинку, и… ничего. Полицаи загалдели, а Фомка прижал добычу к животу, отскочил подальше и, смеясь, показывает: мое, не отдам! Даже бутылку извлек, похвастался. Полицаи сразу заспешили. Бородач из деревенских полез на воз, второй подставил спину, готовый принять мешок.
Толя пригнулся, все в нем сжалось от ожидания.
Ему показалось, что крыша с оглушительным грохотом взлетела вверх. На голову посыпалось. И сделалось тихо-тихо. Тишину, испуганную, какую-то очень пустую, не может заполнить тонкий, протяжный, будто улетающее эхо, крик:
– Э-э-э-э…
Толя выглянул в распахнутую дверь чердака. Воза нет, и полицаев нет.
Ага, поднимаются с земли: один, другой… А поближе к тому месту, где стояла телега, на земле дергается что-то красное и жутко, не переставая, тянет:
– Э-э-э…
Кубарем, как заяц, Толя скатился вниз, вбежал в дом.
– Где ты пропадал? Не выходите, – распоряжается взволнованная мама. Лицо ее так непохоже на глуповато восторженные лица Павла и Алексея, да, видимо, и Толино.
– Еще хватать начнут, – говорит мать.
А бабушка, как курица, над которой распластал крылья коршун, то присядет, то к окну бросится. Из окна тянет холодом: вывалилось несколько стекол.
– Слышите – стреляют. Или это показалось мне? – доносится голос дедушки.
– Э, глухая тетеря, – сердится бабка.
А Толя все пытается рассказать свое:
– Я думал – крыша на меня…
На работе сегодня есть о чем поговорить. Больше всех судят-рядят Повидайка и Казик.
– Ловко, знаешь-понимаешь, хлопцы это самое…
– Работают ребята, и не лопатами, как мы.
Младший из братьев Михолапов начал потешаться над бородачами («Из троих одного не собрали!»), а Порохневич вдруг сказал:
– Немцам это и надо.
И снова та же противная ухмылочка на безусом уже лице, которая так злила Толю в первые дни, когда только пришли немцы. А кажется, сам же собирал «подарочек» для полицаев!
Когда все ушли к машине сгружать щебенку, Порохневич сказал Павлу при Толе:
– Разрядили мину у своих на горбу. А немца – ни одного.
– Какие они свои, Лука Никитич? – возразил Павел.
– Бобики, – вставил Толя.
– Ну, конечно, теперь ничего не остается. Когда собака взбесится, ее, не раздумывая, убивают. Но разве обязательно, чтобы их столько было? Молодые – почему они? Хотя бы эти Леоновичи, два брата! Я их батьку знал, не большого ума человек, но безобидный, как теленок. Никакой он не враг был, а из детей его вот кого сделали…
– Ничто их не оправдывает, – не согласился Павел.
– Да я не о том.
В воскресное утро около комендатуры выстроилась большая колонна крытых машин. Загадочно и зловеще чернели их пустые чрева. Эсэсовцы в черных накидках поверх шинелей чего-то ждали, скучившись под соснами. Это настораживало. Мама решила:
– Уходите к Артему. Переждете там.
– А ты, мама? – протестующе отозвался Алексей.
– Ну что ты спрашиваешь? Куда мне со стариками? И Маня…
У Мани лицо в коричневых пятнах.
– Опаснее для мужчин, а мы как-нибудь, потом, – заключила мама.
Павел распорядился:
– Надо топоры взять, будто в лес.
Выходили вчетвером. Янек тут как тут: он только что не ночует у Корзунов. Янек, кажется, подозревает, что к этому дому тянутся какие-то нити. Он не осмеливается ничего узнавать, но старается быть начеку, чтобы не прозевать, не пропустить.
И теперь Янек доволен, что оказался на месте в нужный момент, первый шагает к лесу, откуда, возможно, уже не придется возвращаться.
Когда уходили, мать поцеловала Алексея, потом – дрогнувшими губами Толю.
– Ты, Павел, старше, смотри, как лучше. Не приходите, пока все точно не разузнаете через Артема. – С трудом сказала: – А если что, ты знаешь, куда идти.
Охватившее всех возбуждение мешает до конца понять, уяснить страшный смысл этих ее последних, тихо оказанных слов.
За школой их догнала Нина. В пальтишке, из которого она давно выросла, в больших ботинках, она на себя не похожа.
И только бледное широкое личико и серьезные глаза – Нинкины.
– Меня тетя Аня – с вами.
– А сами они? – все-таки спросил Алексей.
– Не знаю. Тетя сказала: уходи и ты.
За поселком Павел совсем преобразился: походка стала пружинистой, нос горбится по-особому хищно и радостно. В лесу облегченно заговорили все сразу.
Но тут же притихли. В поселке что-то началось: крики, женский плач. Пошли быстрее, Теперь говорит один лишь Павел:
– Партизаан должен идти и все примечать. Ямка, пень – тут можно залечь в случае чего. Прошел ямку – намечай следующий рубеж…
На опушке встретили Лесуна с топором и жердью на плече. Тут же под дубами оставались до вечера. «Баба» принесла два кувшина молока и большую ковригу.
Артем ушел к поселку.
Вернулся он только под вечер. Ничего не говоря, сел на пень, который ему почтительно уступили, и начал сворачивать цигарку.
Толя с ненавистью смотрел на волосатые руки, занятые табаком, точно это они мешали человеку говорить.
– Что там? – не выдержал Алексей.
– Надрожались. Согнали всех за проволоку. Табор целый: дети, бабы. И я подсунулся, хотел сблизку разглядеть, а этот завкомовец Пуговицын – цап меня. Матка ваша испугалась, подумала, что и у меня побывали. Твоей женке, – он повернулся к Павлу, – плохо было, а теперь ничего. До притемков держали. Шумахер все бегал за немцами, уговаривал. А человечек он полезный. Понаехали из города какие-то. Документы давай проверять. Не бумажки, а молодые вам нужны! Ищи-свищи. Разбежались, а которые под завод, в трубы позаползали. Домой пойдете завтра, мати приказала. Перин у меня на вас не припасено, снопы под гумном стоят. Распустил – и канапа тебе, хочешь – спи, хочешь – мышей гоняй. Не заскучаешь.
Ужинали при лучине.
– Вот когда-то, – вспоминал Артем, дуя на горячую картофелину, – над корытом с водой защемишь лучину в светец, и хорошо. Как-то свелось все. И сделать руки не доходят. А вот так навалом – смоляков много надо, но набраться.
– Скажите вы мне, – продолжал философствовать Артем, – людям хватало и лучины, потом керосина показалась нехороша, лампочки эти придумали. А вот в ту войну немцы были другие, чем эти, не такие звери. Как это понимать: люди умнее, а злее сделались. Или тут фашизма эта виновата?
– Фашизм, дед! – серьезно поправил его Павел.
На соломе спать одна роскошь. В этом столько партизанского!
А Лесун про них, про партизан:
– Спрашивает: ну, хуторянин, понял, что к чему? А я его, бороду, и до войны знал: приезжал, распоряжался. Я-то, говорю, свое понял. А вы свое поняли? Или и потом будете…
Кто-то прошел по двору, осторожно постучал в дверь. Сердце у Толи забилось в сладком страхе: они!
Артем вскочил, долго всматривался в окно, потом вышел в сени. С кем-то переговаривается, стукнула щеколда.
– Янек, – неожиданно раздается у порога. Это батька Янека.
– Что вам? – не очень ласково отзывается сын, хотя и на «вы».
– Янек, где ты тут? Что это ты делаешь? Хочешь всех загубить? Иди домой, пока не знают.
Сын молчит.
– Янек!
– Не пойду сегодня. Вы что, в Германию хотите меня сплавить?
– Побойся бога, Янек! У нас уже все спокойно.
– Ну и спите спокойно, я приду завтра.
– А если проверят? И матку и брата губишь.
Барановский, видимо, боится, что Янек собрался уйти в лес.
– Хлопцев вот никто домой не тащит.
– Кто как хочет, а ты иди.
Сын молчит.
– Янек! – снова и снова звучит в темноте. Толя живо представляет озабоченное лицо Барановского, высокого работяги-печника, всегда такого молчаливого. – Янек, у тебя к матке и брату сердца нету.
– Завтра!
– Я-я-нек!
Ушел. Артем закрыл дверь. Сказал почему-то со вздохом:
– Дитя плачет, пока поперек лавы[9] ложится, а как вдоль, от него плачут.
– Ты всплакнешь, как же.
Это «баба» голос подала откуда-то с печи. От удивления Лесун и кряхтеть перестал.
Утром все уже выглядело по-иному. Вместо с ночью как бы отступила и опасность.
Дома хлопцев встретили так, точно это они пережили самое страшное.
Ознакомительная версия.