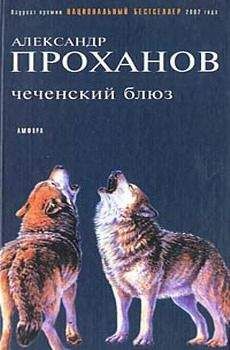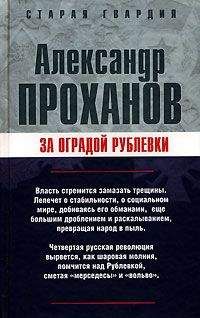— На мой борт! — повторил командир эскадрильи.
Пленный подошел, молча поклонился и замер, возвышаясь пышным, складчатым шелком над головами пилотов.
— Сюда, сказал ему Батурин, — подводя к пятнистой машине, помогая влезть на ступеньку. И пока тот влезал, забросив клюку, Батурин сквозь ткань чувствовал литую мышцу.
Они уселись. Предатель между левым и правым пилотом. Сзади него Батурин, чтобы можно было общаться. Березкин с борттехником уселись на лавку.
— Ну, с Богом, как говорится, пошли! — сказал Березкин. — На свадьбе гулять и «горько» кричать! — Взвел фотокамеру, прицелившись в круглое, наполненное солнцем стекло.
Вертолеты проскрежетали по рифленому железу, взмыли один за другим. Батурин видел сквозь блистер мелькающую серую землю. Все те же развалины старой крепости, как огромный гнилой зуб с провалившимся дуплом. В недрах дупла на пепелище виднелись шатер кочевника и два неподвижных верблюда. Пролетели кишлак — клетчатую хрупкую вафлю. В ломких тисненых ячейках некоторые квадраты светились, словно покрытые золотой фольгой, — это сушился на крышах урюк. Зарябили поля, зеленые, черные, будто лоскутья бархата, нашитые на грязную мешковину пустыни. Струйки арыков пульсировали, отражали солнце.
Батурин видел, как за пышной чалмой афганца чернеет пулемет с концентрическими кругами прицела, стелется белый, сахарный солончак. Чувствовал стремительный, грозный вектор, по которому двигались вертолеты, — упрямый, отточенный, проходящий сквозь ствол пулемета. Думал: свадьба, война, ночное предчувствие смерти, мысли о милых, ожидание любви, затмение в страхе и ненависти — быть может, все это, неразделимое, переплетенное, переходящее одно в другое, и есть целостность жизни, которую невозможно понять, а можно только принять. Вот он, живой, никому не желающий зла, читавший «Бабур-намэ», летит на бомбовый удар. Он и есть носитель этой целостной жизни. Так и надо жить, не иначе.
Они пересекли долину и взмыли над главными складками гор. Казалось, под огромной попоной спят великаны. Виднелись очертания их туловищ, ног и голов. Перевалили кручи и снова снизилась к извилистой, плоской реке. Шли низко над водой, над белесыми тростниками, над вспышками черного и белого солнца. Стая уток косо взлетела. Лунь, похожий на алебарду, соскользнул и пропал под днищем.
Батурин смотрел в прогал между головой вертолетчика в пластмассовом шлеме и пышной чалмой афганца. Река кидала вверх бесчисленные отражения солнца, словно в воде открывались и гасли глаза, взлетали чьи-то руки, пытались задержать вертолет, отвернуть назад, изогнуть в обратную сторону металлический вектор. Но пилот твердо удерживал рукоять управления. Незримая тугая стрела проходила сквозь ствол пулемета, и туда, по этой стреле, неслись боевые машины.
Резко, круто воспарили, отвернув от воды. Афганец, испугавшись виража, всплеснул руками, откинулся назад, на Батурина. Вертолет набрал высоту, развернулся, поместив в стеклянные грани кабины другие два вертолета. И в прозрачном блистере неожиданно близко возник кишлак. Дувалы, сады, виноградники. Плоские крыши. Куполок мечети. Склеенные домики, рулеты и лабиринты проулков. И среди гончарной лепнины в четырехугольнике просторного подворья открылась свадьба.
Пестрая густая толпа заполнила двор, окруженный стеной с округлой глиняной башней. Белые, голубые, розовые одежды, расстеленные красно-золотые ковры. В проулках толпились люди. В соседних улицах клубился народ. И все стягивались, вливались в это подворье, где на коврах, на узорах тесно сидели гости. Сверху, с высоты, заострившимся, птичьим взором Батурин, казалось, разглядел пиалы с красным соком граната, окутанные паром груды риса с кусками смуглой баранины, блюда с плодами оринджа, бороды в серебряных, тугих завитках, шитые тюбетейки, вольные складки одежд на плечах у мужчин, и орнамент ковра, и блик солнца на стеклянном сосуде, и коня под тенистым деревом, его медное стремя, и куст блеклых роз, и легкий блеск от лежащего, притаившегося в древесной тени оружия. Он все это успел разглядеть, словно свадьба оторвалась от земли, приблизилась, опала, легла на землю разноцветным, клубящимся ворохом.
— Вот они, тут! — крикнул афганец, озираясь яростно и счастливо. Зубы его блеснули в мокрых красных губах, и глаза огненно провернулись в глазницах.
Летчик потянул рукоять, отворачивая, отваливая. Поставил землю плоско, дыбом, словно желал ссыпать, стряхнуть с нее свадьбу. И снова мелькнули две другие машины, пятнистые, длиннохвостые, с пушками и пузырями кабин.
— Пошел! — Березкин навалился на Батурина сзади, крича вертолетчику: — Дави их!
Вертолет медленно, сносимый вдоль гор, повернулся вокруг невидимой, пропущенной сквозь небо, оси. Застыл на мгновение, словно трепетал в пустоте. И грозно, мощно, напрягая все свои стальные конструкции, рванулся вперед, в пике, захватывая в ромбы кабины пестрый клубок — ковры, пиалы и бороды, помещал их в прицел бомбомета.
Сорвавшись с подвески, бомба пошла на свадьбу, продолжая лететь под днищем, отлипая, проваливаясь, удаляясь к земле. Машина, отпуская от себя белую бомбу, косо ринулась в сторону, прочь, выстригая винтами небо. Батурин, вытянув шею, заглядывал из-за плеч великана. В крутом развороте увидел черный, косматый взрыв, затмивший подворье, взлетевшие в клубах отметки тряпья. В курчавом дыму открылась на мгновение жаркая яма в том месте, где только что пестрели ковры, белели тюрбаны и бороды.
— Велик аллах! — Хромой пытался встать в рост, утыкаясь чалмой в потолок, сжимая огромные кулачищи. — Велик аллах!
— Отлично! — кричал Березкин. — Еще разок зайди!
Вертолет отваливал, удалялся, освобождая небо для атаки другим машинам. Издали, от гор, Батурин видел, как пикирует «двадцатьчетверка». Вонзает в воздух острые, черные зубья, дымные, пышные трассы, и на их продолжении, среди глиняных башен и стен, катятся круглые взрывы, ломают и жгут. В недрах кишлака, как в коптильне, начинает чадить и дымиться, и над дымом несутся узкие тела вертолетов, мерцают в подбрюшье.
Снова пошли на кишлак, снижаясь, налетая на плоские кровли. В проулке сквозь дым бежал человек в размотанной, опавшей на плечи чалме, воздев кверху руки, держа в кулаке винтовку. Второй пилот ловил его пулеметом, жал на спуск.
Стучали очереди. Было видно, как пули кудрявили пыль дороги у ног человека спереди, сзади. Тот продолжал бежать. Летчик, оскалясь, с длинным, беззвучным криком захватывал его в концентрические кольца прицела, вгонял ему в спину очередь, валил лицом вниз. Машина низко, с грохотом прошла над убитым, над кроной дерева, над главкой мечети.
— Велик аллах! — ликовал великан, сжимал огромные кулаки.
Батурину было страшно видеть свершавшееся убийство, а вблизи от себя — сверкающие, огненные, под черными бровями глазищи.
Вертолеты сновали над кишлаком, наполняя улицы огнем и сталью, словно вытачивали в глинобитном монолите новые ходы и прогалы. Били из пулеметов и пушек в коновязи, в деревья, сады, догоняли бегущих.
За кишлаком на дороге мчался всадник. Белая чалма, пузырящаяся, как крылья, накидка, шлейф пыли из-под копыт. Вертолет нагонял его низко, на бреющем, оглушал ревом винтов. Всадник обернулся, пригибаясь, сдирая из-за спины автомат. Вертолет наваливался своей мощью и скоростью. Всадник повернулся в седле, бросил поводья, ударил навстречу машине. Пуля пробила блистер, наполнила кабину мельчайшей пылью. Метнувшиеся из барабанов снаряды выломали из земли часть дороги, превратили в черную копоть. И Батурин издалека, из далекого виража видел взлетающий дым, убитых лошадь и всадника. Нес в своем ужаснувшемся сознании отпечаток того лица.
Афганец хохотал, скалил зубы.
Вертолеты возвращались домой. Батурин сидел, глядя на мелькавшие кручи. В блистере — окруженное трещинками отверстие, из него тонко, остро тянуло сквозняком.
Вернулись, сели.
— Скажи ему, — Березкин хлопнул пленного по высокому плечу, — скажи, он получит деньги. Вечером придем, потолкуем!
Афганец не кивнул, не ответил. Лицо его было спокойно и каменно. Уходил, опираясь на палку, сопровождаемый двумя автоматчиками.
Батурин лег. Он страшно устал. Глаза его были закрыты. Под веками, окруженная красным и белым, чернела дымная яма. Мчался всадник. Мелькали копыта. Клубилась прозрачная пыль. Оборачивался, приближался, отпечатывал в близком лице Батурина свое бледное, под белой чалмой лицо. И это лицо вошло в Батурина как отпечаток смерти. Чужая смерть погрузилась в него, становилась его собственной смертью.
После обеда он сидел в штабе, в кабинете Березкина, уточняя тексты фонограммы для агитационно-пропагандистского отряда. Броневик «Алла Пугачева», как называли его пропагандисты, выезжал вперед, за оцепление, перед войсковыми порядками, и вещал на окруженный кишлак, предлагая мирному населению покинуть жилища, выйти из зоны боя, собраться в безопасном месте. Когда мирный народ, женщины, старцы и дети покинут дома, самолеты нанесут удар по мятежному, превращенному в крепость кишлаку.