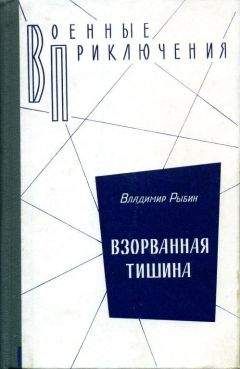Ему повезло. Вскоре, как пришел, начались поиски одного валютчика. Что о нем было известно? Да ничего, кроме словесного портрета: бровишки белесые наискосок, подбородочек острый, как у мыши, кепка грузинская — блином. Да еще кличка — Живоглот. Кличка — уже кое-что, но ведь это не фамилия в паспорте, поди-ка узнай о ней.
Ходили они по улицам всем угрозыском, в лица заглядывали. Кепок было много, удивленных физиономий — еще больше. Тогда Сидоркину пришла в голову «гениальная» мысль: чего ходить, когда можно стоять, а еще лучше — сидеть? Где-нибудь у окошка. Люди мимо идут, как на смотринах. И зашел в кафе, и встретил приятеля по автобазе — шофера Пашку Чумакова. Посидели у окошка, он и говорит: «Чего ты их на проспекте-то высматриваешь?» — «Кого?» — «Да тех самых. Разве я слепой? Ты в бильярдную шагай, что в парке, там теперь вся шваль собирается, там у них вроде штаб-квартиры». — «Ты откуда знаешь?» — «Слыхал. Это при тебе, раз ты в угрозыске, никто не скажет. А шофер для всех свой…»
В общем, надоумил. Пошел Сидоркин в бильярдную, заплатил сразу за два часа, стал играть. А какая там игра, когда кий в руки взял второй раз в жизни. Маркёра учить не надо — всех насквозь видит. Подослал к Сидоркину двоих — на деньги…
Просадил он тогда, может, половину своей зарплаты, а сам все по сторонам поглядывал да слушал. И поймал в общей шумихе: «Бей его, Живоглот, кием по макушке!»
Через неделю майор Коновалов поздравил Сидоркина с премией. И поглядел на него с любопытством: «Есть в тебе что-то, Сидоркин, определенно есть…»
Но то дело казалось забавой по сравнению с предстоящим.
Целый день он работал над своим внешним видом. Пиджачишко — замусоленный и пропыленный — раздобыл у соседа, рабочего с железнодорожной станции, руки натер графитом от разломанного карандаша, чтобы выглядели неотмываемыми. И, видно, не перестарался. Подполковник Сорокин хоть и усмехнулся, но одобрил, сказал: «Немного театрально, однако убедительно».
В таком вот виде Сидоркин и отправился в порт на маленьком рейсовом катере. Ушел в салон, сел в первый ряд и стал разглядывать суда, стоявшие у причалов. Тут были и порожние танкеры, присевшие на корму, словно перед прыжком, и сухогрузы с высокими обшарпанными бортами, и рыболовные траулеры с косыми срезами слипов, деливших корму на две части. Катер уважительно обходил суда, кидал на высокие борта игривую волну, испуганно вскрикивал сиреной.
Позади Сидоркина сели прапорщик-пограничник и парень в фуражке таможенника, заговорили о чем-то заумном:
— Никто, как дети, не верит в будущее. Ребенок убежден, что он — центр мироздания и что ему уготовано бессмертие. Но человек растет, растут его знания и мало-помалу убавляют самоуверенность. Приходит время, и он машет рукой: «От меня ничего не зависит». А старость просто созерцательна, старики не только не стремятся, но часто и не считают возможным переделывать мир. Это истина, с которой нелепо спорить.
«Я по этой теории — далеко не ребенок, но, ясно, и не старик, — подумал Сидоркин. — Я еще верю, что со всей земной швалью можно покончить раз и навсегда. Если не церемониться…»
— …Взлет человека где-то посередине жизни, когда опыт и знания уже достаточно высоки, а самоуверенность, заставляющая верить в непреложность истин, еще мала.
С трудом переварив эту фразу, Сидоркин пожал плечами и снова оглянулся. Пограничник смотрел на него с настороженным любопытством.
— Где я вас видел? — спросил он.
— В милиции, — скромно сказал Сидоркин.
Пограничник недоверчиво оглядел его одежду, и Сидоркину вдруг пришло в голову, что сейчас этот прапорщик очень просто может прицепиться к нему и отвести на КПП для выяснения личности. То-то смеху будет в угрозыске. Совсем невеселого смеху, потому что задание-то останется невыполненным.
Он торопливо перегнулся через диванную спинку и прошептал прапорщику на ухо:
— Я из угрозыска.
Думал, что пограничник не поверит. Но тот только улыбнулся одними глазами.
— Точно, именно там и видел.
Снова Сидоркин стал смотреть на близкие борта судов и краем уха все прислушивался, что еще скажут эти разговорчивые дружки.
— К Верунчику-то заходил? — спросил таможенник.
— Ее Верой зовут, — сдержанно сказал пограничник.
— Что, уже успел разочароваться в девушке?
— Брата ее встретил пьяного.
— Редкое явление в нашем городе! — съязвил таможенник.
— Не нравится он мне. Хитрый какой-то, себе на уме. Боюсь, он из тех «братиков», что околачиваются на толкучке.
— Пьяные разные бывают. На днях видел сцену: бабы над пьяным хлопочут, а он выкомаривается, стихи им читает: «Сердобольные русские бабы волокут непосильную пьянь».
— Есенин, что ли?
— Шут его знает. Бабы говорят: пьяный пьяному рознь. Жалеют: хороший, видать, человек. Другой бы матом, а он стихами кроет…
Помолчали. Катер наклонился на крутом повороте и закачался на своих же волнах, отраженных от причальной стенки.
— Смех прямо! Бежит, например, человек по бульвару в спортивном костюме — все оглядываются, плечами пожимают. Идет пьяный, еле на ногах держится — хоть бы кто слово сказал. Привыкли, что ли?
— Еще Маяковский сказал: «Класс, он тоже выпить не дурак».
— Выпить — это ж не напиваться. Я все думаю: почему такое общественное терпение к пьяным? Как прежде к юродивым…
— Бить их некому, — сказал Сидоркин, не оборачиваясь.
— Вот тебе глас из народа, — обрадовался таможенник. — Только не кнутом надо бить — словом.
— Мертвому припарки…
Катер толкнулся, ударившись о причал. От неожиданности Сидоркин стукнулся головой о переборку и выругался. И стал ждать, когда сойдет последний пассажир.
На берегу топтались отъезжающие, прятались в тень: в затишке пристани было жарковато от солнца. За пакгаузами лязгал буферами поезд, перегородивший дорогу. Сидоркин уцепился за черные поручни, перебрался по вагонной площадке на ту сторону, огляделся и, не заметив за собой никакого «глаза», бодро зашагал к Интерклубу.
Там у дверей уже стоял чистенький экскурсионный автобус, за стеклами виднелись равнодушные лица иностранных моряков. Возле автобуса суетился красивый чернявый парень в небрежно накинутой на плечи серой куртке, судя по описанию, тот самый Кастикос, порученный ему на этот день. Сидоркин постоял в стороне за липами, дождался, когда из подъезда вышла Евгения Трофимовна, и с равнодушным видом пошел к автобусу.
Евгения Трофимовна посмотрела на него внимательно и всплеснула руками:
— Вася! Как ты тут оказался?!
— Да вот, с работы, — ответил Сидоркин, растерявшись от неожиданной фамильярности, от этого невесть откуда взявшегося имени — Вася. Хотел вежливенько напомнить, что вот уже двадцать три года его зовут Николаем, да передумал.
— Поедемте с нами!
В ее голосе была такая неподдельная радость, что он удивился: «Умеет же! Ведь видит, верняком, второй или третий раз».
— А вы куда собрались? — спросил Сидоркин.
— Гулять. Отдыхать будем, по горам бродить и всякое такое.
— А нельзя «всякое такое» без гор?
— Нельзя, у нас — экскурсия. Поедемте, а? — И, повернувшись к матросам, выглядывавшим из окон автобуса, начала горячо объяснять им что-то по-английски.
Сидоркин прислушался, напряженно вспоминая из англо-русского словаря, с которым не расставался с тех пор, как поступил на юрфак. И все-таки разобрал: Евгения Трофимовна представляла его иностранцам как своего давнего и доброго соседа, у которого один грех — любит выпить, и спрашивала, не возражают ли они, если сосед Вася поедет с ними.
Матросы пожали плечами: им было все равно.
Насчет «греха» в легенде ничего не говорилось, и Сидоркин разозлился на Евгению Трофимовну за такую инициативу. В баулах, лежавших на сиденьях, похоже, были не одни дорожные бутерброды, и Сидоркину, «любителю выпить», трудно будет отказываться от угощений.
Но ничего не оставалось, пришлось принимать игру, глупо улыбаться и лезть в автобус с этой «этикеткой», так великодушно приклеенной к нему Евгенией Трофимовной.
Он сидел в заднем ряду и осматривал матросов. Их было восемь, судя но виду и языку — не только греки с «Тритона». Евгения Трофимовна время от времени оборачивалась, словно желая убедиться — все ли на месте. Рядом с ней сидела переводчица, непрерывно говорила, показывая в окна на пробегавшие мимо причалы, дома, обелиски.
Первую остановку сделали возле памятника «Вагон». Тридцать лет назад этот вагон оказался на ничейной земле и был так изрешечен пулями и осколками, что даже теперь, через годы, было страшно смотреть.
Матросы ходили вокруг вагона, качали головами, совали пальцы в пробоины. А чернявый Кастикос раскурил сигарету, вставил ее в пулевое отверстие.