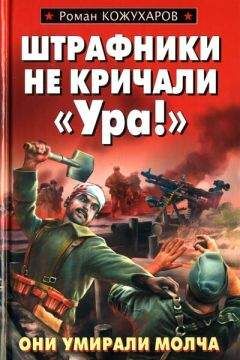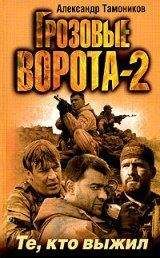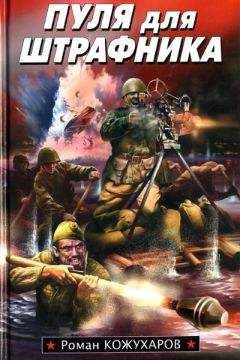VI
В последние часов пять оборона стрелковой ротой квартала превратилась в неподконтрольный командирам, самотеком идущий процесс. Русские прорывались наскоками, стремились любыми силами выбить оборонявшихся с первых этажей. Ударная сила первого, атакующего эшелона русских была особенно мощной. Здесь они использовали «сорокапятки», танковые орудия и пулеметы, трофейные «фаустпатроны». Шедшие следом, во втором эшелоне, брались зачищать каждый дом, пролет за пролетом, этаж за этажом, квартиру за квартирой, до самого чердака.
Такая тактика оправдывала себя вначале. Отрезанные от своих и от возможных путей отступления, немецкие и венгерские солдаты стремились скорее отступить, всеми возможными способами стремясь соединиться со своими подразделениями.
Однако командиры жестоко следовали приказу высших военачальников – удержать Пешт в руках немецкого гарнизона. Отступление расценивалось как бегство с поля боя. Произошло несколько показательных расстрелов тех, кто слишком поспешно покинул вверенные им позиции.
Позже, когда уличные бои превратились в нескончаемую, часами и сутками измеряемую кровавую битву, растущие злоба и ненависть заставляли оборонявшихся цепляться за каждый сантиметр будапештских камней.
Те, кто застревал на верхних этажах, не сдавались, оказывая ожесточенное сопротивление. Они отбивались на свой страх и риск, держа круговую оборону на пятачке этажа, а чаще – квартиры, превращенной вражескими снарядами и гранатами в развалины. Солдаты, потерявшие счет патронам и минутам, вели себя как моряки с утонувшего корабля, зацепившиеся за утлый плот и пытавшиеся выжить на нем среди многометровых штормовых валов.
Несколько раз это упорство оборачивалось чудесным спасением небольших групп и даже отчаявшихся, обезумевших одиночек, которые с винтовкой или пулеметом умудрялись продержаться среди врагов по нескольку часов.
Гауптман, следуя единому приказу, озвученному обергруппенфюрером Пфеффером для всех оборонявшихся частей, – во что бы то ни стало удержать Пешт и весь левый берег, – принимал решение: во что бы то ни стало отбить оставленный дом.
Уже перешедшие под контроль врага, этажи – с первого по шестой или седьмой – вновь становились немецкими.
И тогда все начиналось сначала. Русские подтягивали свежие силы или собирали в кулак прежние, подкатывали свои пушки и танки и вновь шли на штурм здания.
Стрелки дрались неистово, с остервенелостью, возведенной в степень автоматизма. Но все равно ничего не помогало. Отто вдруг ясно ощутил это в тот момент, когда увидел в перспективе сбегавшей к западу улицы, как отступавшие части толпились у моста через Дунай.
Русские, вопреки всему, неумолимо выдавливали их к реке, квартал за кварталом очищая Пешт от немецких и венгерских солдат. Неужто их ненависть была сильнее, чем остервенелая злость стрелков и эсэсовцев? Может быть… В любом случае, любое чувство требует «топлива», нуждается в постоянной подпитке, и в первую очередь в совершенно банальных белках, жирах и углеводах.
В этом плане оборонявшие Будапешт на две головы отставали от своих врагов. Главной потерей последних дней для немецкой и венгерской обороны можно было смело считать полный развал системы снабжения.
Отрезанные от своих обозов и снабженцев, солдаты по нескольку дней не получали провизии, голодали и мерзли, хронически не досыпая во время боев, не прекращавшихся круглыми сутками. Даже там, где отделения обеспечения находились неподалеку, помочь своим солдатам они ничем не могли. Сказывались те месяцы, которые подразделения провели в каменном мешке Будапешта.
Дивизии, оборонявшие венгерскую столицу, были взяты русскими в плотное кольцо еще под Новый год, в конце декабря 44-го. И вот уже на дворе февраль, и запасы продовольствия давно уже съедены, в том числе и неприкосновенные армейские, и закрома будапештских жителей, и уже все обозные лошади канули в котлах с похлебкой, которая без следа канула в вечно голодных желудках тощих и грязных, завшивевших «защитников последнего оплота Третьего рейха». А немногие оставшиеся в живых ветераны, воевавшие с русскими с 42-го, шепотом и в сердцах уже называли Будапешт «дунайским Сталинградом».
Сверху донесся раскатистый металлический стук пулеметной очереди. Харрингер снова взялся за дело. Трассеры наискось прошили пространство перекрестка, войдя в оконные глазницы дома. Дом как будто проглотил эту порцию раскаленной стали и теперь пытался переварить ее.
Стрельба и разрывы гранат были слышны через улицу. Там, в оставленном доме, шел бой. Похоже, кто-то из стрелков все-таки выжил. Теперь русские обнаружили их и пытались уничтожить. Вдруг в проеме третьего этажа появилась фигура солдата. Он истошно закричал что-то.
Отто не мог ошибиться. Это был Штрехмель. Его отчаянный крик преодолел грохот стрельбы и пространство расстрелянной улицы.
– Поддержите огнем, поддержите…
Не докончив фразы, он исчез в глубине этажа. Стрельба в доме разгорелась с новой силой.
– Харрингер! – высунувшись из проема, крикнул вверх Отто. Тут же несколько пуль со свистом ударились в наполненные битым кирпичом шторы, заставив Хагена нырнуть обратно.
– Харрингер, ты видел?! – повторил Отто уже из укрытия. – Это был Штрехмель!..
– Я видел… – донесся озлобленный отклик Харрингера. И тут же его пулемет оглушил новой длинной очередью.
Хаген прекрасно понимал эту злость. Она до краев переполняла самого Отто. Они ничем не могли помочь своим товарищам. Возможно, что Олхаузер тоже еще был жив. Им оставалось без особого эффекта палить по оконным проемам, пытаясь переключить внимание русских на себя.
Вдруг в доме напротив громыхнуло. Языки пламени и черного дыма метнулись из глазниц третьего этажа. Вместе с камнями и обломками мебели наружу вышвырнуло тело солдата. Пролетев по дуге, будто мешок с мукой, оно ударилось о землю с тупым, мерзким, непереносимым звуком, от которого Хагена всего передернуло.
Каску упавшего сорвало ударной волной. Выцветшие рыжие волосы, выделявшиеся ярким пятном на серо-буром фоне разрушенной улицы, не оставляли сомнений. Это был Штрехмель.
Вдруг упавший дернулся и застонал. Его шинель конвульсивно дернулась. Он пытался повернуться на левый бок. Наконец, ему это удалось, и Отто увидел, как вместо правой руки у него дергается по локоть оторванная культя. Он как-то неестественно дерганно шевелился, не двигаясь с места. Скорее всего, кроме оторванной руки, у него были другие ранения.
– О Господи… – услышал он шепот Вейсенбергера. Тот, остолбенев, застывшим взглядом, не отрываясь, смотрел на перекресток, где корчился Штрехмель.
– Хаген! Хаген!.. – донеслось со второго этажа. Это кричал Харрингер. Его голос звучал, как голос безумного. – Хаген, ты видишь?!.. Штрехмель жив, он жив!.. О, черт… Он жив…
Штрехмель барахтался посреди перекрестка, беспомощно дергая своей культей. Его стон становился все громче, переходя в непрерывное жуткое завывание.
– Гады… Гады… Лучше бы они убили его… – как сумасшедший, закричал сверху Харрингер. Он принялся палить по всем оконным проемам без разбору. Наверное, он попросту пытался заглушить невыносимый вой умиравшего Штрехмеля.
Враг не замедлил ответить. Сразу несколько – с нескольких огневых точек – перекресток по диагонали пересекли расчерченные трассирующими пулями очереди. Теперь стреляли и с третьего этажа. Преимущество высоты создавало для русских выигрышное положение.
Хаген и Вейсенбергер не могли высунуться из своего укрытия. И сверху, с позиции Харрингера, не раздавалось знакомое цокающее «цта-цта-цта».
Как только пулеметы русских делали паузу передышки, тут же округу оглашали страшные звуки. Их издавал Штрехмель. Его горло, наверное, не выдержало собственных криков. Теперь сквозь сорванные голосовые связки наружу пробивались какие-то булькающие и клокочущие хрипы. Но слышно их было очень хорошо. Наверное, их усиливали стены домов, окружавших перекресток с четырех сторон, на манер древнегреческого амфитеатра.
В сознании Отто неожиданно, ни с того ни с сего, отчетливо всплыло воспоминание, целая картина во всех подробностях из его школьной жизни. Касалась она как раз удивительной акустики древнегреческого театра. Они особенно доводили седовласого и медлительного учителя литературы Кристофа Клайна. Передразнивали и кривляли его при каждом удобном случае, презрение к «несерьезному» предмету перенося и на его преподавателя.
Так происходило и на уроке, посвященном «античным истокам трагедий великого фон Клейста». «Когда Эдип, закалывая себя, шептал предсмертные слова, – задумчиво вещал Клайн, в тишине, нарушаемой назойливыми смешками Отто и его товарищей, – зрители отчетливо слышали его в последних рядах амфитеатра. Вам хорошо слышно на вашей «галерке», Отто Хаген? Вы хорошо слышите? Так вот, вы будете наказаны».