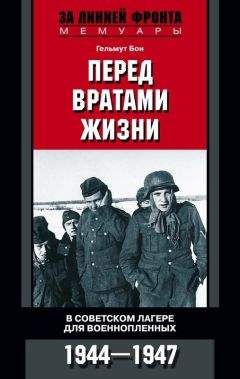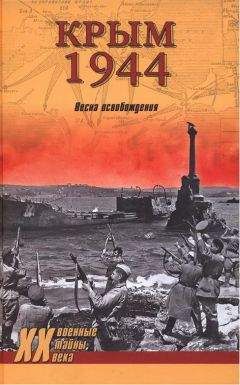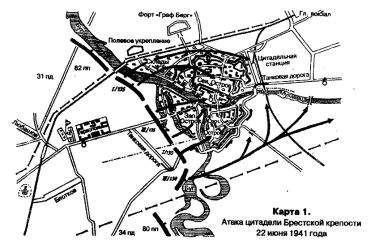Ознакомительная версия.
Наконец лес остается позади нас. Слева лежит польский лагерь. С обеих сторон от железнодорожного пути виднеются воронки от авиабомб. Их сбросили летом немецкие летчики, когда я еще был в утятнике. Ах да, утятник! Там как художник я жил очень хорошо!
На повороте у перекрестка первый вагон снова сходит с рельс. Нам у четвертого вагона это без разницы. По крайней мере, можно хоть немного передохнуть!
Но в этот момент на нас чуть было не наехал пятый вагон. Мы едва успели отскочить в сторону!
Помочь поставить первый вагон на рельсы? Ну уж нет! Вздор, они сами должны были быть внимательнее!
Те последние остатки энергии, которые у нас еще оставались, полностью испарились во время этой получасовой задержки. К вечеру стало чертовски холодно. Когда мы снова начинаем движение, я никак не могу согреться. При этом уже целый час кожевенный завод маячит у нас перед глазами. Он появляется то слева, то справа от нас.
Мы никак не продвинемся вперед. Но мне уже все безразлично. Я тупо упираюсь в стенку вагона. Даже головой. Как бык. Стекла очков запотели. По носу струйкой стекает пот. Я сдуваю капли пота, и они замерзают на стенке вагона. Там уже образовалась крошечная ледяная горка. Кто-то из идущих рядом со мной постоянно толкает меня в бок. Я отвечаю тем же. Никто не произносит ни слова. Я тоже молчу даже тогда, когда кто-то ломает ногу. Меня уже ничто не трогает, все проблемы отступили на задний план, и моя душа омертвела.
Остались только проклятия, такие же огромные, как вся эта земля. Никто не хочет быть всеобщим посмешищем, и проклятия стихают.
Когда мы наконец въезжаем в ворота кожевенного завода, проходя мимо женщины с винтовкой в руках, закутанной в теплый платок, то впервые распрямляем натруженные спины.
Несколько деревенских девушек, работающих на кожевенном заводе, смотрят на нас и смеются. Но мы не обращаем на них никакого внимания. Мы и так уже достаточно унижены.
Я впервые снова поднимаю голову только тогда, когда, перейдя по льду замерзшее озеро, мы относительно быстро выходим на дорогу, ведущую в лагерь.
Когда, пошатываясь от усталости, мы входим в лагерь, оказывается, что вечерняя перекличка уже давно закончилась.
Я хлебаю суп. Тот, который полагается нам в обед, и сразу же вслед за ним вечернкуо порцию.
Я слишком устал, чтобы карабкаться вверх на нары. Многие из нашей бригады уже храпят. Мне кажется, что я и не смогу сейчас уснуть.
Я отправляюсь в шестой барак, где лежит художник из Эссена.
— Мы уже виделись с тобой однажды в Эссене. Точнее говоря, тогда я не обратил на тебя внимания. Я не смог бы сейчас вспомнить твое лицо. Но это было в одном из городских кафе. Мы вместе с тобой сидели за одним столиком. Нас даже представили друг другу.
Мы, я и художник из Эссена, договариваемся, что никогда не должны забыть то, что видим сейчас в лагере.
— Посмотри вон на тех! Как они сидят на корточках на своих нарах и тянут руки к мискам с едой! — говорю я. — Это похоже на кормежку зверей в зоопарке.
Мерцающий свет от коптилки отбрасывает на стены огромные тени, похожие на карикатуры.
— Это можно было бы снять на пленку. Ничего не нужно менять, ведь это готовые кадры для фильма о жизни в лагере для военнопленных, — говорит мой земляк.
— Если нам суждено снова вернуться домой, ты должен нарисовать мой портрет, — говорю я художнику. — Запомни хорошенько, как я сейчас выгляжу. На носу очки в старомодной оправе. Один глаз немного прищурен. И с оскаленными зубами. Нарисуй мне настоящую пасть. Это я так ухмыляюсь. И чтобы зубы торчали.
А теперь взгляни на мой картуз. Ты должен его тоже нарисовать. Один остроконечный кончик торчит вертикально вверх, как ослиное ухо. Другой подогнут вниз. Это должно выглядеть как дурацкий колпак Тиля Уленшпигеля.
И если сможешь, нарисуй на картине и кисть моей руки. Но она должна выглядеть подобающим образом. Лучше всего нарисуй на пальце огромный перстень. Как знак того, о чем я тебе говорил: однажды я стану очень богатым! Когда картина будет готова, мы возьмем ее в качестве титульного листа для книги. Тот, кто будет ее читать, сначала должен будет ржать как лошадь, покатываться со смеха. Но потом он должен будет понять, какой глубокий смысл заложен в этом шутовстве. После этого он еще раз прочтет нашу книгу. И тогда он вынужден будет осознать, что в мире должно произойти нечто такое, что навсегда исключит повторение ужасов и бедствий войны.
Я отдаю художнику всю свою порцию табака. Он радуется как ребенок и достает маленькую краюшку хлеба, которую мы делим пополам. Мы без вина сидим словно пьяные.
— И если мне все же суждено сдохнуть здесь, — говорю я, — тогда позаботься о том, чтобы кто-нибудь сыграл на губной гармошке, когда врач с крысиной мордой будет вскрывать мой труп. Пусть он сыграет мелодию «Под красным фонарем в Санкт-Паули»! (Район Гамбурга, известный своими борделями. — Ред.)
И вообще, в жизни надо как можно больше играть!
После первого же освидетельствования в Новом году мне уже не нужно больше идти на торфозаготовки. Меня признали дистрофиком.
Мои приятели поздравляют меня, но теперь я опять должен перебираться в другой барак.
В рабочем бараке был фельдфебель со своими золочеными рамами для картин и с неиссякаемым оптимизмом. Там был сектант-проповедник со своими вечными вопросами. Там остались мои друзья Пауль и Алоис.
И каждое утро метель заметала все кругом, когда мы стояли перед воротами лагеря. Тогда я погружался в себя. Начиналась игра с микрокосмосом сердца.
А каждый вечер, когда я держал в озябших руках горячую жестяную миску, это было спасением жизни.
И когда я разговаривал с отчаявшимся художником, то казался самому себе важной птицей.
— Все зависит от твоей воли!
И когда я заходил к активистам, чтобы поговорить с Йодеке на политические темы, я тоже казался самому себе важной птицей: разве я похож на того, кто хочет получить от вас лишнюю миску супа! Вот только с Мартином Цельтером я разговаривал в это время не очень охотно. Он испытывал угрызения совести, так как всегда был сыт, в то время как я умирал с голоду.
У меня у самого была нечистая совесть, когда я важничал:
— Что может быть лучше, чем состоять в рабочей бригаде! День пролетает как одно мгновение!
Кроме того, за несколько недель до моего дня рождения Мартин подарил мне горбушку хлеба. Целых шестьсот граммов! С тех пор я обхожу Мартина стороной, когда замечаю его на территории лагеря.
Но теперь, после того как женщина-врач нашла у меня дистрофию, все будет иначе.
Это происходит в одно чудесное воскресное утро. Я точно знаю, какое сегодня число, так как у моей жены сегодня день рождения.
У меня прекрасное настроение.
— Совершенно не понимаю, почему она поставила мне диагноз — дистрофия! — удивляюсь я.
— Дружище, да ты бледный как смерть! — говорят мне мои приятели.
— Да? — удивляюсь я. — Я этого даже не заметил!
И тогда у меня мелькает мысль, как же опасно привыкать к постоянной нужде и замыкаться в себе. Ведь действительно в последнее время я едва мог ходить. И вот после обеда в этот выходной день я лежу на нарах и думаю о предстоящих четырех или шести неделях отдыха.
Ярко светит солнце. У нас первое свободное воскресенье за последние недели. Пленные слоняются по территории лагеря и курят махорку. Они навещают знакомых из других бараков или ставят заплаты, используя для этого шпагат. Один вышил белой шерстью на околыше своей шапки сердце. Сейчас он занят вышивкой двух слов: «Анита» и «Гельзенкирхен».
В этот же вечер меня навещает Мартин, активист. Йодеке неожиданно перевели старостой актива на стекольный завод. Ганс стал старостой антифашистского актива здесь в нашем лагере, и поэтому происходит перераспределение обязанностей.
Мартин должен теперь отвечать за стенгазету.
— Ты не мог бы взять на себя иллюстрации и заголовки к статьям в стенгазете? — спрашивает он меня.
— Ну конечно! — говорю я. — Ты разве не знаешь, что в утятнике я уже работал художником?
Я никак не могу понять, почему Мартину ничего не известно об этом.
Мои приятели удивляются, когда в понедельник утром один из членов актива приносит мне блокнот для рисования и акварельные краски. В комнате, где размещается актив, слишком тесно. Так что лучше я останусь сидеть на своих нарах и буду рисовать здесь. Меня вполне устраивает, что активу не пришлось освобождать меня от работы на торфозаготовке.
— Как у дистрофика у меня все равно целый день свободен, — сказал я Мартину. — Кроме того, рисование доставляет мне удовольствие.
Я с удовольствием принимаю подарки от актива. Разумеется, за исключением супа! Ведь они могут выразить мне свою признательность и каким-нибудь другим образом.
Ознакомительная версия.