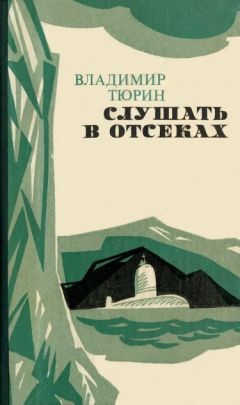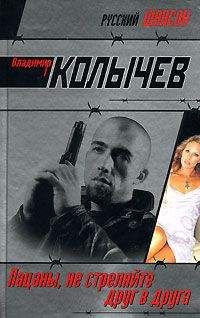— Не пущу-у!.. Не пущу-у!.. — Мария Колокольникова бросилась к трактору. Испуганно загомонив, грачи поднялись в воздух. — Не пущу-у!.. — Она забежала вперед, уперлась руками в ребристые клетки радиатора. — Не дам!..
Мария кричала страшно, как только могут русские бабы в неистребимом горе. Так было и тогда, весной, когда здесь же разнесло ее меньшого, Витюшку.
— Глуши… — скомандовал Тимофеич, тяжело спрыгнул на землю и, враз обессиленный и разбитый, сел на плуг. Он не видел, как Мария подбежала к Любке, сдернула ее с седла, хлестнула в материнской жалости по лицу и обняла, прижала к груди, запричитала:
— Не пущу-у-у!.. Одна ты у меня, донюшка!.. Ясонька моя!
Ничего этого не видел Тимофеич. Он сидел и плакал, кляня себя за слезы на людях. Плакала его давняя загнанная далеко вглубь обида на свое бессилие, на то, что рушится все, о чем он мечтал, чем жил все эти пять месяцев. Клял, пытался сдержаться, но слезы текли сами по себе.
Все произошло настолько ошеломляюще неожиданно, что Панкин поначалу растерялся. Он обвел взглядом потускневшие лица крестьян. Вот только что они на что-то надеялись, радовались, а теперь в их глазах снова поселилась тоска. Черная, безнадежная. И вся эта тоска смотрела на него, бывшего уже теперь сапера, бывшего старшину. Они ждали помощи. Панкин опустил голову. А что он может? Сесть за трактор? Зачем? Сегодня он уйдет в район на сборный пункт, а оттуда — домой. Почему же именно он должен? Чего они все так на него смотрят?
Мыслишкам этим срок был лишь мгновение, но и его было достаточно, чтобы Панкина захлестнула злость. «А ведь струсил, сволочь, напоследок. Струсил». Он еще раз оглянулся, не заметил ли кто. Подошел к трактору, уселся в седло и поерзал, устраиваясь поудобнее.
— А может, я прокачусь, Виктор Иванович? Когда-то тоже умел. — Коломиец легко взлетел на трактор и встал рядом с Панкиным.
— Нет, Ваня. Дай я, — сказал прочно, будто гвоздь заколотил. Коломиец это почувствовал и не стал возражать. Уже спрыгнув на землю, он пожал плечами.
— Давай ты, если уж так хочется. Какая разница?
Какая разница, он хорошо знал — всякое может случиться — и не хотел, чтобы первую борозду вел Панкин. Наверное, и чемодан уже собрал…
Трактор глухо урчал. Старшина положил руку на рычаг переключения скоростей и удивился: никогда не потели ладони, а тут вдруг взмокли. Сколько взрывателей повыворачивал — не было такого. На колесо начал пыхтя взбираться Тимофеич. Панкин ухватил его за плечи, чтобы не свалился, и зло спросил:
— Куда тебя черт несет?
— Как это куда? К тебе.
— Ну-ка крой отсюда.
Тимофеич зацепился культей за руку старшины, подтянулся и, отдуваясь, пробурчал:
— Эшь ты, герой нашелся. Крой… Я тут кто? Я — Советская власть. Учитывай…
Панкин перевел скорость и закрыл глаза. Осталось совсем немного, совсем… До судороги напряженная нога мелко задрожала. «А-а, черт», — про себя выругался старшина и отпустил педаль сцепления. Трактор рванул с места. Впереди лежало поле. Пять месяцев работал на нем Панкин, не чувствовал своего сердца, будто и не было его вовсе. Сейчас же оно ворочалось в груди тяжелым комом.
Сзади что-то радостным голосом крикнул Тимофеич. Старшина не расслышал, обернулся и увидел, как до блеска отполированные лемеха разваливают пластами жирную, стосковавшуюся по человеческим рукам землю. На борозде уже затеяли драку грачи.
Видавшая виды щелястая теплушка натужно стонала на каждом стыке рельсов, а на поворотах стены ее визгливо кособочились и вслед за стенами куда-то в сторону со скрипом ехали нары. На одном из поворотов, когда казалось, что вот-вот горбыли нар выдавят стенки и загремят под откос, кто-то наверху вдруг спросил:
— Слушай, лейтенант, ты нас живыми-то хоть довезешь? А?.. У меня жена молодая. — Это был опять тот самый женатик, который приехал в военкомат прямо со свадьбы.
Пожилой лейтенант, с отечным сумрачным лицом, сопровождавший нас, пустил толстую струю дыма в гудящую краснобокую чугунку и безразлично буркнул:
— Такого захочешь — не убьешь.
Женатик громко зевнул и затянул: «Жена найдет себе друго-о-ва-а, а мать сыночка никогда-а…»
До чего же надоел он нам за день своей женой и бесконечно длинными и нудными песнями, которые пел на один и тот же мотив. А точнее, и вообще без мотива. Но посоветовать ему заткнуться ни у кого не хватало духу: уж больно здоров был женатик и наполнен какой-то неуемной силой. Когда он потягивался, а потягивался он смачно, расправляя широченные плечи и выкатывая тугую грудь, то казалось, что от его яростного томления лопаются сухожилия и с треском выворачиваются суставы. А ведь он был нам ровесником, этот бугай.
Все уже было перепето с утра. За оконцами теплушки смеркалось, и тяжелая, дремучая тоска как-то совсем незаметно подкралась на смену утренней хмельной удали. И вдруг каждому из нас захотелось тишины и уединения. Примолкли. Лишь в углу на нарах кто-то шепотом делился своими печалями.
Честное слово, мы были неплохими парнями. Но нам здорово не повезло: когда шла война, мы убегали из дома, пристраивались к воинским эшелонам, чтобы попасть на фронт, нас возвращали и говорили: еще малы, ваше время придет. Работать наравне со взрослыми мы не были малы, а тут оказывались малы…
Время наше пришло. Но когда? Когда окончилась война.
Призвали нас тоже как-то не по-людски. Ждали осенью — не призвали. Взяли других. Потом оказалось, куда-то недобрали, и вот теперь, в декабре, начали собирать поодиночке со всего района. До военкомата провожали нас песнями, гармошками и плачем. Сходились и съезжались с разных сторон, пьяные, шумные. Нас строили, проверяли по спискам, мы разбредались, прощались, снова становились в строй и опять убегали прощаться. Женатик заливался пьяными слезами, взасос целовал молодую жену, а уже перед самой посадкой в вагоны по совету какой-то провожавшей его старухи, видимо своей или ее матери, со всего маху ударил жену по лицу. Та села в снег и непонимающе заулыбалась. Старуха нагнулась к ней и сказала:
— Знай, доченька, мужнину силу. Не балуй без ево.
Поезд дернулся, и город наш медленно-медленно, точно не желая с нами расставаться, начал отставать, увязая по самые окна в снегу. Мы запели. Запели что-то веселое, с гиканьем, с уханьем, с присвистом. Потихоньку допивали припрятанную от лейтенанта водку или самогон и снова пели. А сейчас притихли в тяжком молчании.
Вместе со встречным ветром сквозь щели протискивались снежинки, и часть из них тут же у стен оседала в маленькие сугробики, а другие путешествовали по теплушке, пока не исчезали в каленом воздухе над чугункой.
У стен дуло, и все жались к середине вагона. Места потеплее заняли кто поздоровее или понахрапистее. И только рыжему не хватило места в середине. Он примостился на своей котомке у подрагивающей двери и весь день молчал, точно прислушивался к железной толчее под вагоном. И чего его взяли? Был же у военкомата выбор. Отобрали нас всех крепких, здоровых… А рыжий был жалок, худ и тих. В вагон он забрался последним и пристроился в одиночку у двери.
На первой же остановке женатик сунул ему в руки ведро и скомандовал:
— Ну-ка, рыжая команда, кипяточка!
Рука, что называется, у женатика оказалась «легкой».
— Рыжий! Чего-то печка у нас потемнела. Пошуруй-ка там!
— Красный, ты чего расселся? Кто за углем пойдет?
— Рыжий, подай-ка вон там из угла мой сидорок.
На одной из станций нас кормили обедом. Рыжий за весь вагон мыл котелки, ложки и снова носил кипяток, уголь, приносил, кому было лень слезать, на нары прикурить.
— Рыжий! Красный! Кирпичный!
И рыжий все делал, боязливо посматривая на нас добрыми голубыми глазами.
Молодость и здоровье порой бывают неосознанно жестокими. Мы этого тогда не понимали и, когда надоедало петь, начинали цепляться к рыжему. Особенно долго и до слез гоготали, когда силой заставили его выпить водку. Рыжий не посмел отказаться и мучился на потеху нам. Он закашлялся, слезы вместе с водкой струились по бороде и тонкой с синевой шее. Вынужден был вмешаться лейтенант. Но даже после этого глаза рыжего не утеряли доброты.
Когда рыжего не дергали, он сидел у двери, закутавшись в рваную телогрейку, подпоясанную брезентовым ремешком, и чему-то светло улыбался.
Под колесами прогрохотала стрелка, вагон мотнуло, и частая скороговорка стыков начала стихать. Лейтенант приоткрыл дверь, выглянул, одернул шинель и приказал;
— Приехали. Собирай манатки.
Нас построили, и мы пошли куда-то в окоченелую темноту, сначала спотыкаясь о рельсы, а потом вдоль бесконечно длинных, местами разрушенных пакгаузов, мимо сладко спящих, варившихся в снег домов и одиноких, еще и теперь горько пахнущих труб, напоминающих о том, что этот незнакомый нам город успела лизнуть своим беспощадным языком война. А сбоку все время негромко подстегивало: