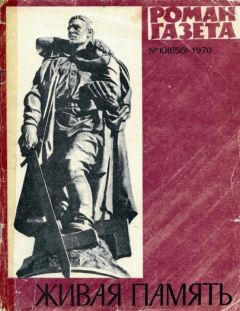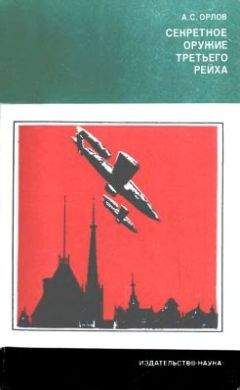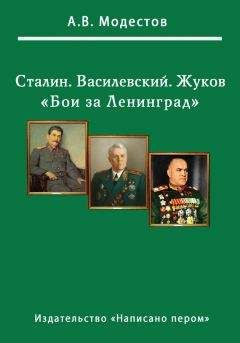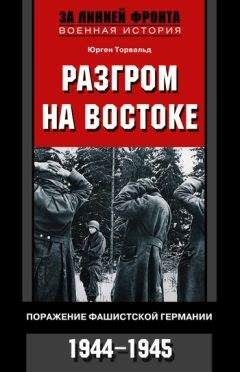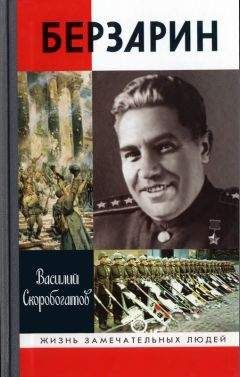— Шофера вон ранило, в кузове лежит.
— А машина?
— Так что машина? Стоит.
— Но побило?
— Исправная.
— Почему не поджег?
— Немцы рядом, человека спасать надо было...
— Ну, что делать, — пожал плечами начальник склада. — Поехали. Садитесь, лейтенанты.
— Знаете что? — оживился попутчик. — Мы с вами не поедем, а заберем ту машину. Я вожу.
— Успеете?
— Может, что и успеем. В крайнем случае в лес уйдем.
— Смотрите сами... Там в землянке, между прочим, медицинское имущество и спирт. Учтите!..
Грузовики ушли, мы остались одни. Я, откровенно сказать, побаивался и опасался, что это уже авантюра. Но за сутки, проведенные вместе, я, по-видимому, уже попал под влияние попутчика, настроился на его психологический тонус, да к тому же, видя, как просто выходит он из затруднений, как здраво ко всему относится, проникся к нему доверием. Поэтому я не стал его отговаривать — да и поздно было, — а попытался приглушить беспокойство шуткой:
— Интересно, что сказал бы в этом случае Староиванников?
— Это мы решим потом, сейчас давай поспешать...
До лесного мыса на противоположном краю аэродрома, где находилась машина и медицинская землянка, было около километра или чуть побольше. Ориентиром служила небольшая деревянная вышка на опушке. Мы закурили и двинулись, не догадавшись даже положить продукты в вещмешки: колбасу сунули в карманы, буханки взяли под мышки. Но не прошли мы и двухсот метров, как низко над пустым аэродромом начала кружить «рама». Сделав первый заход, летчик заметил, что истребители, столь картинно торчавшие у дороги, исчезли. Сначала он, по-видимому, решил, что их в целях маскировки закатили в березовый лесок, пронесся над ним, едва не задевая колесами за вершины, но, убедившись, что и здесь их нет, пришел в неописуемую ярость. И так как, кроме нас двоих, хорошо заметных на зеленой дернине, никого уже не было, вся эта ярость обрушилась на нас. Заложив крутой вираж, он заходил на покатое пикирование, со спины, включал на полную мощность пулеметы и рубил, рубил, рубил. Временами казалось, что он просто раздавил нас своим желтым брюхом. Мы прижимались к земле, плюхались в канавки — следы, продавленные колесами шасси, — холодная, грязная вода текла за воротник, пули, как град, пузырили и брызгали вокруг. Как только самолет оказывался впереди, мы вставали и бежали что есть силы, а потом все начиналось сначала. Это была какая-то странная, нелепая, выматывающая душу игра со смертью, причем мы были совершенно беспомощны: не из пистолетов же было стрелять по самолету, который, как мы знали, имел еще и бронезащиту! Но и летчик, видя, что мы все подвигаемся, невредимые, совсем осатанел и, закладывая сумасшедшие виражи, бил уже не только вслед, но и в лоб, и справа и слева, так что голова шла кругом и трудно становилось следить за ним.
Наконец, измученные, грязные, мы заползли под скирду клевера. Аэродром, собственно, уже кончился, но до ближайшего кустарника оставалось еще метров сто. Пробежать их у меня уже не хватало сил.
— Больше не могу, — сказал я. — Крышка...
— Ничего, — утешил, тяжело дыша, попутчик. — Время еще есть.
— Время — для чего?
— Для... Да для всего!
Однако летчик не хотел отпустить нас так запросто. Со второго или третьего захода он поджег скирду. Я в юности немало повозился со стогами сена и был удивлен, что, обычно волглое, оно так быстро загорелось. Но факт оставался фактом: на макушке скирды заплясали язычки огня, густой, пышный белый дым, спаленный ровным ветром, потек в лощину и закрыл ее. И это оказалось нашим спасением: немец в самолете, исходя из собственной логики, решил, очевидно, что мы попытаемся вырваться к лесу под прикрытием этого дыма, и строчил по лощине, а мы, перебравшись на наветренную сторону скирды и прикрывшись сеном, отдыхали. Наконец «рама» ушла, может быть, расстреляв боезапас. Мы совершили еще один рывок, выскочили на песчаный, редко опушенный низкорослым кустарником бугор, увидели машину и землянку. И услышали совсем недалеко за всхолмленным полем пулеметную и автоматную трескотню, редкую, но совершенно отчетливую.
— Вот теперь надо спешить, — сказал попутчик, хотя движения его ничуть не стали торопливее, словно и сказано это было только для меня. — Лезь в землянку, тащи что можно, а я заведу полуторку...
Признаться, я впервые в жизни попал в такую переделку и, мучаясь стыдом, все же немного праздновал труса. Немцы совсем рядом, а я должен в землянке, ничего не видя, возиться с каким-то барахлом, целая гора которого не стоит все же одной человеческой жизни! И, размышляя так, не мог предложить попутчику плюнуть на все и удирать, пока еще есть время. Не мог, язык не повернулся бы... Бутыль спирта стояла справа у самого входа, чуть подальше ящик с медикаментами, а на грубом столе из сосновых досок — бокс с инструментами. Я захватил оплетенную, ведра на два, если не больше, бутыль и выволок ее, полагая, что тем можно и кончить. И наткнулся на вопросительный взгляд попутчика.
— Еще есть что-нибудь?
— Есть...
— Так давай... Чего же ты?
Так перекочевали в машину и ящик, и инструменты, и еще какой-то бидон.
— Все?
— Брезент еще валяется... Только он большой и тяжелый, один не вытащу.
— Ничего, давай прихватим... Мотор уже работает, чего тут!..
Когда вытащили брезент, сырой и грязный, и прилаживали кусок его под бутыль, чтобы не побилась при тряске, я посмотрел в поле и обмер; метрах в четырехстах поднялась из-за холма и двигалась по раскисшей пашне немецкая пехота. Мокрые, очевидно, измученные за день, сутулясь и медленно загребая ногами, солдаты плелись негустой изломанной цепью. И оттого, что шли они молча и без выстрелов, серозеленые, как выходцы с того света — они появились внезапно, — мне стало по-настоящему страшно. Я указал на них попутчику. Он кивнул мне на кабину, сел за руль:
— Теперь и правда пора!
Через минуту полуторка на полном газу выскочила из кустарника и, разбрызгивая воду в колеях, понеслась к противоположному краю аэродрома, к шоссе. Как видно, наши войска отошли куда-то в лес, и для немцев наше появление было полной неожиданностью, поэтому они не сразу стали стрелять, а когда застучали пулеметы, мы были уже далеко. К тому же начинало смеркаться, в насыщенный водой воздух словно подсыпали пепла. Благополучно вскочили мы в ракитовую посадку, проехали мимо дощатой столовой, которая беззвучно зевала в сумерки открытыми дверями и окнами, миновали стык шоссе с полевой дорогой, где недавно дурили головы шоферам. Еще не все опасения отошли, — вдруг немцы пересекли дорогу впереди? — но настроение поднималось и поднималось. Теперь я уже не вспоминал, что подозревал попутчика в склонности к авантюризму, а считал, что одержали мы с ним хоть маленькую, но победу.
Когда отъехали километра на полтора, попутчик мой, не глуша мотора, выжал сцепление и остановил машину. И тут я с удивлением заметил, что руки у него дрожали. Неужели и он волновался?
— Надо выпить, — предложил он. — После грязевых ванн и для нервной переналадки.
— У тебя-то нервы стальные.
— Да? Цыпленок тоже хочет жить.
— Выпить-то выпить, а где закуска?
Закуски не было. Хлеб и колбаса остались в колеях на аэродроме: растеряли, пока удирали от «рамы».
— Ладно, — сказал он, — выпьем без ничего. Придется привыкать. Как сказал бы Староиванников, война только начинается.
— Если не считать того, что немцы под Москвой!
— Ну и что? Они-то думают, что для них кончается, а для нас — начинается. Податься назад некуда, а загубить Советскую власть — позор до сотого колена. Больше ей, погибни мы, нигде на свете голову поднять не дадут — и учены, и не то в армиях оружие. Значит, браться нам надо как следует. Я так думаю...
Ополоснул кружки, прибавил:
— У нас под Угличем длинно окают, но крепко говорят!
Налил мне полкружки спирта, разбавил мутноватой водой из кювета и приказал выпить до дна.
— От контузии. И лезь под брезент, спи.
— А ты?
— Мне много нельзя, ехать надо...
Очнулся я около полуночи, но, когда посмотрел вокруг, подумал, что сплю. Вокруг все было бело, крупными хлопьями валил снег. Откуда он взялся? Наша полуторка медленно двигалась через белый лес в плотной колонне грузовиков справа от дороги, а слева шла артиллерия. За стволы орудий, нереально длинные и толстые, побеленные сверху, цеплялись тоже побеленные, со снегом на пилотках и на плечах, смертельно усталые пехотинцы — так было легче идти. А со стороны казалось, что они тащат орудия на себе. И полное молчание, ни одного слова, только тяжелое, с хрипом дыхание и временами надсадный кашель. Глаза отказывались верить тому, что видели...