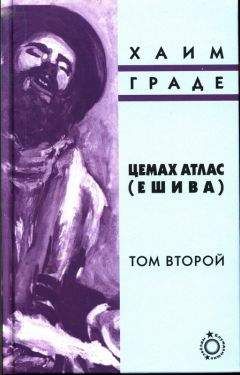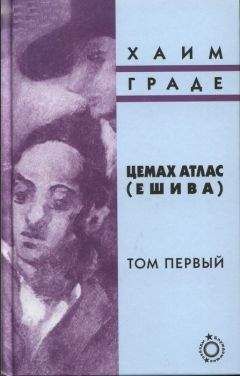Вместе мы ушли на войну в ночь после Судного Дня, Дов и я, вместе шагали к пункту сбора резервистов и вместе попали к адмору в тот близкий к полуночи час, когда повстречали хасидов, благословлявших луну. Хасиды сказали нам, что их адмор — чудотворец и его благословение имеет большую силу. Подталкиваемые со всех сторон, мы приблизились, стараясь лучше расслышать его слова. Адмор взял мою руку в свои ладони и, сердечно поглаживая ее, взглянул на меня и произнес: «Падет на них ужас и страх, падет на них ужас и страх — на них, но не на вас».
Мы вышли. Сели в автобус, уверенные, что через несколько дней вернемся домой. Все те страшные дни стояло передо мной лицо адмора, и слова, сказанные им, звучали в моих ушах. Всякий раз, когда меня охватывал страх, я видел перед собой его, произносящего: «На них, но не на вас», — и успокаивался.
Пока не услышал о гибели Дова. С тех пор мне больше не грезился образ старца.
Прошло много дней. Весной в месяце ийар мы отмыли танки, сдали личное снаряжение, сняли солдатскую одежду и вернулись в йешиву. Все время намеревался я пойти к адмору, рассказать, что произошло с тех пор, как он меня благословил. Решил, что расскажу ему, как в понедельник утром подбивали наши танки в каменоломнях Нафаха, как горели они один за другим, как выскочил из танка «два-бет» покрытый копотью заряжающий, в шлеме, с объятой пламенем ногой, и стал кататься по земле. И как кричал Гиди, наш командир: «Наводчик, огонь!» Я отвечал: «Но у меня не пристреляно орудие!» А командир снова: «Наводчик, огонь! Огонь! Слышишь? Не важно куда, по нам стреляют… Танк подбит… Выскакиваем!» Рони, водитель, крикнул: «Я не могу выбраться! Пушка закрывает люк!»
Я вернулся к танку, чтобы сдвинуть орудие, и мы вчетвером бежали под пулями по базальтовым террасам, и Эли стонал: «У меня больше нет сил бежать, я остаюсь здесь». Мы почти волокли его и вдруг увидели сирийских коммандос, выпрыгивающих из вертолета прямо напротив нас… И это, и еще многое расскажу я адмору, все, о чем думал и о чем молился, как звал на помощь и какие давал обеты.
И каждый раз, думая об этом, я говорил себе: «Когда я закончу свой рассказ, спросит меня адмор тихим голосом: „А товарищ твой, что был тогда с тобой в ту ночь…“ И я опущу глаза и отвечу: „Дов погиб“». Какую боль я причиню старику! И я не пошел. Вернулся к занятиям. Спустя несколько лет не выдержал: поехал-таки в Байт ва-Ган, встретил амшиновских хасидов, спросил у них о ребе. И мне ответили: «Несколько часов назад переселился адмор в мир иной».
На что живому человеку жаловаться? Достаточно того, что он жив.
Я вздрогнул. Чья-то рука коснулась моего плеча.
— Солдат, приехали. Солдат, ты заснул? Слышишь меня, солдат? — спрашивает водитель и слегка треплет меня по плечу.
— Да, слышу, слышу.
— Наводчик, ты меня слышишь? Проверь связь в шлеме, наводчик!
— Да, Гиди, слышу, наводчик слушает.
Сидя в мягком кресле наводчика, я вздремнул на минуту, откинувшись на спинку. Двое безумных суток без сна, одна рука на щитке, другая на прицеле, глаз распух от ударов об окуляр, который безошибочно бил по глазу всякий раз, когда танк трясло на базальтовых террасах. Гиди, командир, кричит:
— Наводчик, следи за линией хребта! Мы на войне, а не на учениях, ты слышишь меня, наводчик?
— Да, командир, слышу. Куда? Куда целиться? Извини, водитель, я слышу, конечно же слышу.
Просто вздремнул немного.
Байт ва-Ган, говоришь? Конечно, я знаю. Я здесь вырос.
Я пробудился от сладкого сна на мягком вельветовом сиденье нового «вольво». Сколько уж времени я так не спал. Великолепный тремп[9] от перекрестка Геа до перекрестка Байт ва-Ган, последнего перед домом. Взглянул на часы. Восемь вечера. Осталось еще шестнадцать часов отпуска — первого отпуска с Йом-Кипур. Не так уж плохо, в конце концов.
От Кфар-Халас, что в самом конце сирийского анклава, до Кунейтры — час. Ханан, мой новый, послевоенный ротный командир, довез меня на своем джипе прямо до центральной площади. После войны Ханану досталась особая рота в нашем полку. От заместителя командира полка он получил три танка. Один, сильно изувеченный в бою за каменоломню в Нафахе, со сбитой на сторону башней, и два танка на укороченных гусеницах, хромые. Они застряли на старом нефтепроводе: проблема с приводом. Еще один танк, бесхозный, без поворотного устройства башни, который стоял в полковой мастерской Мориса, Ханан забрал сам в дополнение к тем трем. Теперь у него было три с половиной танка. После войны — и это рота.
«Ханан! Набери себе экипажи из тех одиночек, что спаслись из подбитых танков, сколоти роту и будь ее командиром. Это то, что есть». Говорят, что именно так сказал ему командир полка. И добавил: «Мне нужна рота в боевой готовности напротив Тель-Антар. После этой войны никто не может позволить себе рисковать, кто знает, что будет. Я полагаюсь на тебя, Ханан».
В нашем батальоне пронесся слух: Ханан комплектует новую роту. Во время войны Ханан был командиром взвода. Теперь будет командиром роты. Собрались вокруг него осколки прежних экипажей. Кое-как сколотили несколько новых. Кто был танкистом — знает, что творится в сердце того, кто остался один. Он слоняется по батальону со шлемом в руке, без танка, без экипажа. Потому-то, прослышав, что Ханан комплектует роту, мы даже не стали выяснять, с кем попадем в экипаж и что за танк нам достанется, как это всегда делалось в обычные дни. Послевоенные эти дни обычными не были. Главное — не околачиваться больше в резерве, переходя с танка на танк или бегая по поручениям ротного старшины. Главное, что мы снова станем экипажем и у нас будет свой танк, со своим именем, которое мы выведем черной краской на белой джутовой ткани, прикрепив ее четырьмя веревками на заднем багажном отсеке. Наконец-то мы сможем снова передать по рации: «Прием! Слышу ясно. Прием!» «Да, 2-Бет слушает, слушает. Через две минуты прибудет командир и займется твоей проблемой. Конец приема».
У роты уже есть имя и есть командир, как в добрые старые времена перед войной. Возвращаемся к нормальной боеготовности. Рота неполная, рота израненная, со шрамами, но — рота. Ежедневный утренний профилактический техосмотр, потом устанавливаем внутриротную связь по рации. Как в любой другой роте. Как раньше. До войны.
Ханан собирал нас бережно, с большой любовью. Он знал, через что мы прошли, и понимал нас. Он тоже поднялся на Голаны на исходе Судного Дня, тоже попал в засаду у Нафаха и участвовал в прорыве на Хан-Арнабе. На редких теперь учениях Ханану не требовалось нам многое объяснять. Все командиры танков и каждый член экипажа знали, что им следует делать. Ни разу он не повысил на нас голос, лишь намекал или говорил тихо. Всегда ходил в рабочей одежде, вместе со всеми ухаживал за танками, смазывал, менял колеса. Как все, нес караульную службу. Иногда утром проходил по палаткам и будил нас легким прикосновением.
Всю дорогу до Кунейтры мы не разговаривали. Ханан — молчун. Вообще после войны мы много молчали. Он сидел за рулем, я — рядом. Только один раз, когда джип сделал резкий поворот, Ханан окликнул меня по имени и показал на русло ручья. Олеандровые заросли в цвету, до чего красиво.
Приехали в Кунейтру. На площади было много солдат, среди них — группа из «Голани», ожидавшая тремп. Ханан распахнул дверцу джипа, помог надеть рюкзак и простился со мной, как отец с сыном. Потрепал, смущенно улыбаясь, по плечу и сказал: «Приятного отпуска. Не опаздывай. Двадцать четыре часа. И не забудь: наводчик танка 2-Алеф не пойдет домой, пока ты не вернешься!»
Мне не пришлось долго ждать: остановился военный грузовик и забрал всех. Начало хорошее. Дай Бог, чтобы так было на всем пути до Иерусалима, до дома.
От Кунейтры до Рош-Пины на грузовике — 45 минут. От Рош-Пины близко до Тверии, а в Тверии уже можно почувствовать запах родного дома. Я сидел у задней стенки кузова, рюкзак на коленях, автомат на плече, смотрел на солдат и слушал их разговоры.
Они перебивали друг друга, рассказ цеплялся за рассказ. Мне было хорошо ехать с ребятами из «Голани», они шумные и веселые, беседа их незамысловата, лица приветливы и открыты. Я очень нуждался в таком дружелюбном, жизнерадостном обществе, чтобы хоть ненадолго избавиться от чувства одиночества и тоски, поселившихся в моем сердце, от печали, которой раньше я не знал никогда.
Солдаты «Голани» напомнили мне ватагу подростков из нашего олимовского квартала Бет-Мазмиль, которые по вечерам толпились у ограды клуба «Тикватейну», галдели и смеялись. В детстве, возвращаясь из талмуд-торы домой, я намеренно проходил мимо них. Мне нравилось слушать их голоса.
В те дни, по приезде из Египта в Эрец-Исраэль, я вообще не совсем понимал, в каком мире нахожусь. Утром я учился вместе с Довом в талмуд-торе, которая славилась своими мудрецами — равом Абрамским и равом Кунштатом, тесной связью с хасидскими дворами и благородством сефардских фамилий Эйни, Абурабиа, Хавильо, Анджел. А к вечеру я возвращался домой — в бедный олимовский «шикун», квартал Бет-Мазмиль, к веселым компаниям подростков. Они сидели, болтая ногами, на железной ограде клуба «Тикватейну» — компания Кесласи, компания Дэдэ, компания Момо. Вечером в пятницу я ходил с отцом в синагогу Аава ве-Ахва «Любовь и Братство», которая перекочевала вместе с ним из Каира в Иерусалим, в асбестовый барак. А по Субботам, каждую Субботу, я бывал с дедом в синагоге Халеба[10] и слушал проповеди, поучительные рассказы, молитвы и напевы хахама Атии и хахама Абуди.