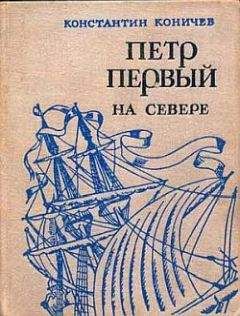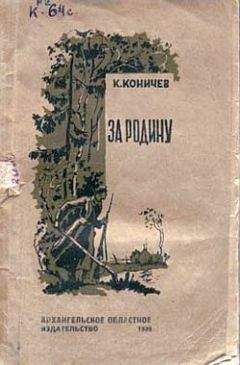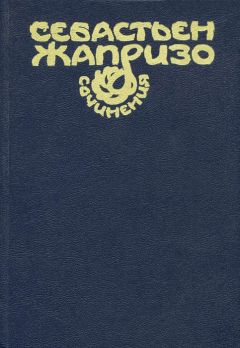Я отошел от него с острым и горьким чувством своего бессилия перед этим детским горем.
Побывав около пристани я направился в госпиталь побеседовать с бойцами.
Во всех классных комнатах, превращенных в палаты, было полно раненых и истощенных, вышедших из продолжительного окружения. Я одел чистый, белоснежный халат и с разрешения начальника госпиталя ходил по палатам и заводил беседы с теми, кто был сравнительно легко ранен и кто более охотно вступал со мной в разговоры. Рядовые бойцы не сведущи в вопросах общей фронтовой обстановки, но они знают много подробностей и в разговорах не скупятся на критические замечания. Я многое узнал от них о серьезных недочетах, о допущенных ошибках, и все это пригодилось мне для моих донесений по телеграфу. Но охотнее всего рассказывали о себе — где и как ранило, как помогают лекарства.
Привлек мое внимание забинтованный вдоль и поперек боец, только что призванный из запаса. В течение одних суток он получил три ранения. Довольный тем, что остался жив, он оживленно рассказывал:
— Жив остался, а почему не убит и сам не знаю. Три раза царапнуло и все по неопытности, главным образом, по своей халатности. Ночью вздумал прикурить, чиркнул спичку, а он в это время тра-та-та, и в мякоть левой руки пуля р-раз!.. Перевязался. Народу в обороне мало. Остался, заживет, думаю. Командир роты похвалил за то, что я без медицины своим бинтом обошелся и действую. Поручил он мне донесение к батальонному отнести. Я рад стараться. Побежал с запиской по ходу сообщения. Мне кричат: «согнись!». А я думаю: чего тут сгибаться. Бегу во весь рост. Как опять застрекочет по мне! Согнулся, да уж поздно: одна пуля сквозь плечо прошла, другая брюшину поцарапала. Из фуфайки вата клочьями полетела. Ребята наши лежат в цепи, говорят: «вон из нашего соловья (фамилия моя Соловьев) — опять перье полетело!..» Смеются дурни, а я ни с места…
— Ничего, помучимся, научимся, — заметил другой раненый, — нашего брата хорошенько разозлить нужно, тогда лучше воевать-то станем, а то еще мы руку не успели набить как следует. Скажу про себя: до войны я настолько добросердечен был, что свинью бывало надо зарезать, а не могу, кротость мешает. Выпью для храбрости пол-литра и иду в хлев ее дразнить да сердить, чтоб на меня бросалась. По три дня хаживал. Потом как она меня рассердит, тут я ей нож под лопатку. Ну, а фашисты нас поразозлили, убей гада — легче на душе будет. Не похвастаю и не совру, сам видел, как двое от моих пуль сковырнулись…
Одного из раненых я узнал по голосу. Он накануне вечером рассказывал историю о переименовании быка. Разговорчивый и не лишенный остроумия, этот боец рассказал, что он карел, уроженец Олонецкого района — Ферапонт Ефимыч Родинов поступил добровольно в партизанский отряд; рана, хотя и не из легких, но меньше всего его беспокоит.
— Тревожусь за жену, — говорил Ефимыч, — не успел жену вывезти. У финнов осталась. А рана чепуха, при хорошем лекарстве да уходе заживет.
С соседней койки тяжело раненый партизан с раздробленной выше левого колена костью скептически заметил:
— Не очень-то верю я молодым лекарям; многие курс не закончили, на войну попали, опыта нет…
Ефимыч, поскольку ему позволяла рана, приподнялся на койке и, поддерживая этот разговор, поведал такую историю:
— Да, земляк, врачевание наука серьезная. Особенно в военное время. Да и в мирное — тоже. Я тебе скажу, что эта наука до чудес дошла. Конечно врач врачу рознь. Так же как и сапожники или молотобойцы. Все зависит от смекалки. От своего котелка. У кого как варит… Расскажу про одного профессора, главного врача медицины. Дело было у нас в селе. Один мужичок по неопытности попил из пруда сырой водички и проглотил лягушонка. Ладно, хорошо. Проглотил и кажется бы дело с концом. Только нет. Этот лягушонок застрял у него как-то в мозгах и вырос в жабу. И от этого факта мужичок стал злой, сильно раздражительный, что ни слово, то и мат. Посоветовали ему в город поехать к профессору, главному врачу по черепным коробкам. Тот постучал ему молоточком по башке и видит в чем дело: надо усыплять мужика. Усыпили. Спилил ему профессор медицины с головы верхушку, глядит, а лягушонок уже вырос в крупную жабу. Сидит эта жабища и за мозги лапками держится. Ежели ее руками снимать, то может она лапками ухватиться и сотрясение мозгов произвести и от этого смерть последует. Профессор был смекалистый. Он взял зеркало и направил на жабу. Вот та гляделась, гляделась и стала исподтишка лапками перебирать, а профессор под нее тихонечко газету подсовывать. Подсунул и снял на газете. Вылечил. Тот человек и посейчас у нас в селе живет. Только заговаривается малость. И на войну его не взяли… Может быть это и не так было. За что купил, за то и продаю…
— Не плохо вылечил! — смеясь отозвался я на рассказ Ефимыча, — и спросил: — Вы, Ферапонт Ефимыч, наверное любитель сказки рассказывать?
— Эге! Копните-ка меня поглубже, из меня как из мешка посыплется. Самому Коргуеву не уступлю. Таких вралей, как я, больше в Олонецком районе не осталось… Будет время, заходите. Дело на поправку пойдет, язык развяжется; удержу не будет. Только знай слушай да записывай…
Раненые хохотали. Ефимыч, довольный, посматривал на всех.
От Вытегры на командный пункт дивизии увертливый «газик» доставил меня через два часа.
Наши части занимали оборону в смежных деревушках. Население эвакуировалось — кто в глубокий тыл, кто в ближние леса. Многие вступили в местные партизанский отряды и вместе с бойцами Красной Армии сдерживали напор врага.
Домик, в котором приютили меня, значился в населенном пункте под № 22 и был занят взводом бойцов. В обыкновенной пятистенке чувствовался еще след полнокровной жизни северного крестьянина, хотя хозяина с домочадцами здесь и не было. В горнице в углу висела без внимания никем нетронутая икона «всех скорбящих радость». Под ней стоял куст терновника. Судя по свежести листьев, за ним кто-то заботливо ухаживал. Над печкой на потолке в недоумении скучились тараканы.
В соседней комнате, на плащпалатках, раскинутых на полу, отдыхали свободные от несения караульной службы бойцы; из-под байковых одеял торчали крепкие с железными подковами сапоги.
— Вот здесь мы и живем, — заговорил простуженным голосом майор Клунев, ленинградский парень, крепкого сложения, с увесистым маузером, свисавшим до колена. — Сегодня здесь, завтра там. Нечего греха таить, потрепаны мы в отступательных боях основательно. Командир у нас — генерал Грозов — тоже ленинградец, прекрасный человек, хороший товарищ, рассудительный и твердый командир. Он заявил, что с этих рубежей мы назад не сдвинемся, а вперед пойдем, когда окрепнем.
«Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За Родину свою»…
— продекламировал Клунев.
— Товарищ Малкин! — крикнул он лысому капитану — своему заместителю, — поройся там в вещевом мешке, нет ли чего…
— Есть товарищ майор. — Отложив в сторону раскрытую толстую книгу, Малкин достал из мешка флягу с водкой.
— По стопочке, товарищ, не желаете ли? — предложил майор.
— Не смею отказаться, я пожалуй, с довоенного времени не употреблял.
— Я почти тоже; через четырнадцать дней исполнится две недели, как ни капли не брал в рот, — сострил Клунев и налил себе, мне и Малкину по полному стакану.
За едой Клунев с жаром и горечью рассказывал о том, как их соединение за Петрозаводском с боем выходило из окружения. Между прочим, он рассказал, как на днях местные партизаны поймали кулака Демина, приехавшего с места поселения. Демин хозяйским глазом осматривал конфискованный у него дом с постройками, радовался приближению финнов и немцев и угрожал колхозникам долгожданной расправой.
— Ну, мы таких не милуем. Поймали и в трибунал. Да, если вас интересует, я предоставлю вам возможность участвовать в допросе пленного летчика эсэсовца, и вы почерпнете кое-что интересное. Может быть еще по чарочке? — спросил Клунев, — водка есть…
В это время со стороны противника начался артиллерийский и минометный обстрел. Снаряды полевых орудий и мины рвались то с оглушительным треском, то с визжащим хлюпаньем и посвистом. Я выглянул в окно, чтобы заметить вспышки разрывов и определить до них расстояние.
— Ничего страшного, — успокоительно заметил Клунев, — днем не пристрелялись, ночью будут зря переводить снаряды и мины. Если устали, ложитесь спать… на лежанку. В случае чего нас разбудят…
Не раздеваясь и не снимая сапог, майор положил маузер под голову, лег на деревянную кровать, притаившуюся за пустым шкафом, и через несколько минут захрапел. Я сел к окну и облокотился на подоконник. Легкой, чуть заметной изморозью подернулись стекла в раме. Узкий, острый месяц выглянул из-за леса, окаймлявшего южную оконечность Онежского озера, и быстро спрятался в тучке, должно быть решив, что при свете взлетающих и падающих ракет ему и делать нечего. Со стороны озера доносились отдаленные звуки орудийной стрельбы нашей флотилии. На улице деревушки, несмотря на позднюю ночь, заметно было сильное оживление: подходили с погашенными фарами грузовики, с них на подводы перегружались мешки, ящики, бочки, затем все это быстро и бесшумно исчезало в ночной мгле. Вдруг над деревней с воем пронесся снаряд, другой, третий, они разорвались неподалеку в поле. Еще один угодил поблизости — на задворках в гуменник. У меня зазвенело в ушах. Под окнами медленной походкой прошли два патрулирующих бойца, перекидываясь замечаниями: