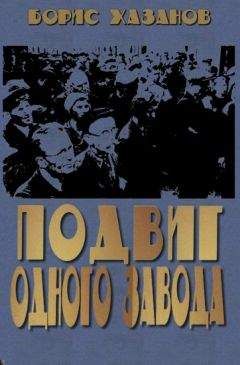— А он знал о драке?
— Значит, знал.
— Что он сказал дальше?
— Отчитал. Не за драку, а за то, что я не доложил вовремя…
Мне перед Ингой стыдно, что так произошло. Она может подумать: «А где-то ты все-таки трус».
Инга смотрит на часы:
— Уже поздно, пора домой.
Так она говорит каждый раз, перед тем как нам расстаться. Я ненавижу эту фразу. Нет, совсем не поздно! Я еще ничего не успел сказать.
— Инга, милая, походим еще немножко! — говорю я и беру ее за руку. — Ты знаешь, мне с тобой…
Инга смотрит на меня диковато, испуганно. Потом предлагает:
— Давай послушаем тишину.
Для чего? Чтобы я не продолжал дальше? Город засыпает. Прохожих на улицах почти нет. Издалека доносится шум трамвая. Мы возвращаемся. Инга молчит. О чем она думает? Неожиданно произносит:
— А Тучков герой. Сам облился этой известкой, зато других спас. В том числе меня…
Я завидую Тучкову. Почему я был так далеко от проклятого огнетушителя? Находился бы близко, как Тучков, обязательно кинулся бы на этот бушующий красный цилиндр.
— Мы теперь с тобой долго не встретимся, Инга.
— Почему?
— Уезжаем в лагеря. Завтра с зубными щетками в девять ноль-ноль быть у подъезда школы…
— Орудия к бою!
Мы выбегаем из укрытий, расчехляем полковую пушку. С нами, как всегда, старшина Исаев.
Старшеклассники чувствуют себя уже кадровыми военными, нам спуску не дают.
Исаев смотрит на секундомер, командует:
— Отставить! Медленно работаете. Повторим.
Мы огорченно расходимся. Мы знаем, что если будем «медленно работать», нашему взводу скинут несколько очков и мы проиграем соревнование.
Правда, очки можно наверстать на других занятиях, но это очень трудно. В общую сумму зачетов входит все: и стрельба из пистолета, и кросс, и быстрота построения. Отстанет один человек от взвода, не выдержав марша-броска — взвод теряет пять очков, промахнется из пистолета — три, проиграем встречу в волейбол — двадцать.
— Орудие, к бою!
Лагерная жизнь всегда полна неожиданностей. Полтора месяца идет военная игра. Она тщательно, по деталям разработана в штабе сбора и хранится в тайне. В тихий послеобеденный час вдруг раздается сигнал тревоги. Или ночью, когда весь лагерь спит, в небо взлетает красная ракета…
Пока мы со старшиной Исаевым занимаемся огневой подготовкой, к окопам, где стоят полковые пушки, подходит майор Кременецкий.
— Отставить занятия! Старшина, ко мне!
Майор вручает старшине конверт.
— Распечатать через тридцать минут, — говорит майор. — Вольно! Отдыхайте!
Мы лежим на спинах на траве, смотрим в небо. По небу плывут белые-пребелые облака. Когда всматриваешься в них ни о чем не думаешь, все забывается. Пройдет несколько минут, и незаметно сам для себя закрываешь глаза, засыпаешь.
Но сейчас, конечно, никто не заснет: всех мучает секрет запечатанного конверта. Что в нем?
Старшина командует «подъем». Мы спешно выстраиваемся. Исаев вскрывает конверт, отдает приказание:
— Взять винтовки, скатки и противогазы. Выступаем в поход. Марш-бросок на десять километров. Конечный пункт — деревня Кувшинки.
Сначала мы идем ускоренным шагом по лесной дороге, потом — бежим. Дорога то опускается в овраги, то поднимается круто вверх. По сухой земле громко стучат наши ботинки.
Сзади меня окликают. Оборачиваюсь на ходу. Это Тучков.
— Троицкий отстает, давай поможем. Останови Доронина.
— Владик!
Троицкий действительно выдыхается. По его лицу и движениям видно: далеко парень не побежит.
Тучков отбирает у него винтовку, я — скатку, Доронин — противогаз.
— Ну-ну, жми веселей, — кричит Тучков. — Мы тебя живого или мертвого доставим.
Бросок заканчивается хорошо. Наш взвод прибывает в деревню Кувшинки первым.
Исаеву и нам объявлена благодарность.
Исаев горд. В таких случаях он всегда говорит не без некоторой рисовки: «Мое воспитание!» Исаева командиры любят: в нем, высоком, стройном, всегда подтянутом и аккуратном, угадывается хороший будущий военный.
После команды «вольно» Исаев снимает пилотку, расчесывает волосы. Мы тоже снимаем пилотки и обмахиваем ими свои круглые стриженые головы. Младшим командирам можно не стричься, нам — обязательно под нулевку. Горечи это доставляет не мало. В лагере — еще туда-сюда: никто не видит, все свои, а в Москве таким лысым явиться на урок танцев…
Взвод отпускают в лагерь, Курский запевает:
Помню городок провинциальный,
Тихий, захолустный и печальный…
Когда он оканчивает куплет, взвод дружно, с лихими выкриками подхватывает припев:
Таня, Танюша, Татьяна моя,
Помнишь ты знойное лето это?
Обычно мы поем эту песню, когда нам кажется, что поблизости нет майора Кременецкого. Но он словно из-под земли вырастает, едва только услышит «Танюшу».
— Отставить песню! Кто запевала? Курский?
Майор подходит к Курскому, спрашивает:
— Что вы улыбаетесь, как майская роза?
У Кременецкого несколько таких острот. Еще он может сказать: «…как лошадь на овес». Старый военный, большой любитель музыки, человек, который отлично знал и блестяще преподавал нам артиллерию, почему-то любил такие остроты. Говорят, что он сам смеялся над их бессмысленностью.
— Чему вы улыбаетесь? За пение нестроевой песни понизим взводу балл. О Танюшах только и думают!
А потом происходит еще одна неприятность. И снова в виновниках — Курский.
Есть у нас один ученик, по фамилии Шумаков. Человек как человек и учится неплохо, но когда идет в строю — закрывает глаза. То ли спит, то ли удовольствие от шагания испытывает.
Когда мы проходим лесом, Курский делает шаг в сторону, не предупредив Шумакова, что впереди дерево. Шумаков врезается в сосну, набив на лбу шишку.
Тучков трет Шумакову лоб.
— Терпи, казак. А Курскому всыплем. Только не спи на ходу. Это, как видишь, вредно.
Навстречу нам попадается строй. Полувзводом идут пожилые люди — полковники, подполковники. Двое первых тащат на себе станок и кожух «Максима».
— Что-то на них нагрузили? — удивляется Доронин.
— Это называется: тяжело в учении — легко в бою, — поясняет, как всегда, находчивый Курский.
— Но ведь в бою им пулеметы не таскать…
— Отставить разговорчики! Кто там бубнит? — кричит Исаев.
В лагере меня ждет радость. Пришло письмо от Инги. Я сижу на скамейке у теннисного корта и читаю: «Дорогой Саша, очень скучаю по тебе. Вспоминаю…»
До меня доносится голос дежурного:
— Учащийся Крылов, к старшему политруку.
Тепляков встречает меня, приветливо улыбаясь.
Я докладываю, он курит папиросу, приглашает сесть. Начинается разговор, цели которого я поначалу понять не могу.
— Как ваша учеба?
— Хорошо как будто, товарищ старший политрук.
— Это верно, хорошо. Смотрел по взводному журналу. Довольны, что пошли в нашу школу?
— Очень.
— Комсомольские поручения выполняете?
— Стенгазету делал, в бюро состою…
— А как общественная работа?
— Что скажут, делаю.
— Как с родителями живете? Кто у вас дома?
— Мать, отец. Мама работает в киоске районного парткабинета от книжного магазина. Папа — счетовод. Еще есть старший брат, Леонид, он в институте учится…
— …и еще у вас есть одна особа, за которую вы готовы идти в бой и даже нести взыскания, — добавляет Тепляков. — Я ничего плохого не говорю. В бой, если дело правое, всегда идти нужно! Вот мы хотим предложить вам повоевать еще на одном участке…
— Я не понимаю.
— Сейчас объясню. От нас перешел в другую спецшколу комсорг дивизиона, отсекр. Товарищи предлагают вас…
— Не знаю, смогу ли.
— Легко, конечно, не будет: четыреста комсомольцев…
И учиться надо не хуже других. Но я думаю, сил у вас хватит! Если надо — помогу. Договорились? Вечером явитесь на бюро.
Выхожу из дивизионного красного уголка. Мне и хорошо и плохо. От волнения сухо во рту. Правильно ли, что согласился? А если бы не согласился? Значит, побоялся бы?
После бюро возвращаюсь в расположение батареи. Звучит сигнал отбоя. Мои товарищи, уставшие за день, уже спят. В лагере тихо. Слышно только, как кричит ночная птица и звенит в овраге родник.
Говорю дневальному:
— Отойду на минутку к буфету.
«Буфетом» мы называем родник. Он всего в ста шагах. В нем самая вкусная вода, самая чистая, самая холодная.
Там, где родник выходит из земли, сделана запруда.
Наклоняюсь к маленькому озерцу и пью с ладоней. А озерцо блестит, посеребренное лунным светом.
Расскажите, товарищ майор…
И снова осень, снова зима…
О лагере, о ночных походах, о кострах, над которыми шипели наши солдатские котелки, можно только вспоминать.