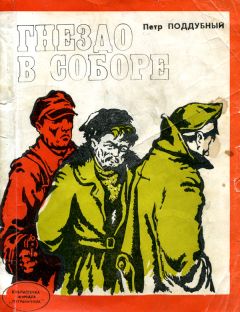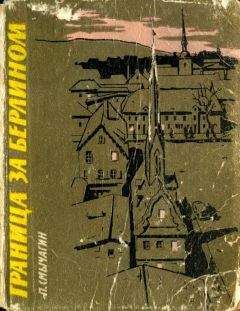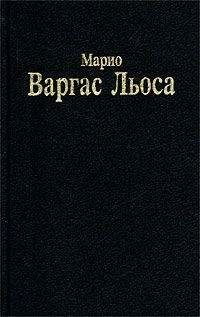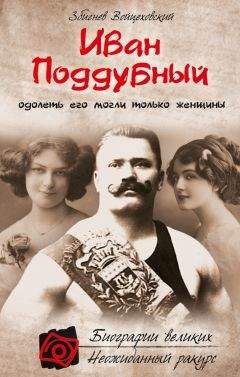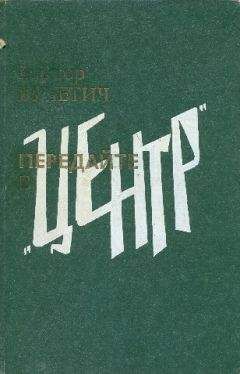Тотчас же выехал в Киев начальник одного из управлений Всеукраинской ЧК Ефим Георгиевич Евдокимов. Нужно было на месте уточнить детали операции, подыскать человека, которому предстояло проникнуть в Цупком. Киевская губчека предложила кандидатуру Федора Антоновича Оксаненко. Евдокимов согласился. Его встреча с киевским чекистом состоялась в тот же день.
Федор Антонович немало уже знал и слышал о Евдокимове, но видел его впервые. Приглядевшись, понял, что они ровесники, но Ефим Георгиевич выглядит старше благодаря более суровому и властному выражению лица и глубоким складкам от крыльев крупного носа к подбородку. И у этой кажущейся властности, и у неровной, слегка вразвалку походки Ефима Георгиевича была одна причина.
Зимой 1905 года исполком Читинской республики Советов рабочих, солдатских и казачьих депутатов создавал боевую дружину. Ефима приняли: был он по-мальчишески смел и не по-мальчишески крепок и смекалист. В конце января, когда боедружинники геройски сражались против карательных отрядов Рененкампфа, Ефима ранило в обе ноги осколками снаряда.
Он точно запомнил этот день. И как было не запомнить! В тот день, в день его пятнадцатилетия, 20 января 1906 года, напрасно ждала его мать. Думала, может, забежит, купила медовых пряников. Ефим последние месяцы редко бывал дома. Враждовал с отцом, отставным солдатом, начисто испорченным царской муштрой. «A-а! Социалист! Выпорю, молокосос!» — закричал он на сына, как только тот объявил себя революционером.
Ефим ушел из-под родительского крова. Ночевал поочередно у товарищей. И как-то само собой стал профессиональным революционером, будто и был рожден для этого.
Товарищи вынесли его с поля боя. Матери и жены товарищей вылечили ноги (благо, мало пострадали кости). Но ходить все-таки было болезненно, он похрамывал, припадая налево-направо. Старался не показывать виду, что больно. Незнакомые люди, увидев его малоподвижное лицо, принимали Евдокимова за человека сурового и даже надменного.
— По нашим данным, ядро Цупкома — кадровые офицеры, — подвел итог Евдокимов. — Вот почему наш выбор пал на вас, бывшего боевого офицера. Очевидно, вам легче, чем кому-либо другому, будет проникнуть в центр.
— Спасибо за доверие!
— Центральный комитет партии придает этому делу особое значение и требует, чтобы Цупком был ликвидирован полностью еще до начала открытых выступлений мятежников. Предполагаем, что они будут возможны, когда мужики отсеются и когда, по расчетам Цупкома, их легче будет оторвать от земли и поднять на восстание. Как видите, времени в обрез. Вам надлежит немедленно приступить к делу.
— Я готов.
— Мы в этом не сомневались, Федор Антонович. Вопрос в том, как скорее выйти на главарей и вытащить всю сеть… Что вы думаете об этом?
Федор помолчал с полминуты, затем с определенностью ответил:
— Неделю назад меня звали на свадьбу — отказался, а теперь, думаю, следует пойти. Приглашал Данила Комар, с которым мы служили в одной роте. Кем-то ему жених приходится. Комар — лихой служака, но недалекий человек. Он, кажется, и до сего дня уверен, что каждый храбрый офицер должен ненавидеть Советы…
— Значит, он никак не может думать, что вы подались к большевикам, — усмехнулся Евдокимов. — Георгиевский кавалер — и на тебе, большевик!.. Ну, так каков же ваш план, Федор Антонович?
— Случилось так, — продолжал более свободно Оксаненко, — что я стал как бы его спасителем — было это еще в четырнадцатом. С тех пор он клянется, что жизнь за меня отдаст. Чувствую, самолюбие мешает ему думать, что он кому-то обязан жизнью. Ему было бы легче, если бы не я его, а он меня спас. Виделись мы с ним неделю назад — жаловался на скуку, говорил, что тоскует по шашке и по своему Орлу — так его коня звали. Вот, говорит, жизнь была. У меня нет никаких фактов, но чутье подсказывает, что если Цупком существует, то Данила должен быть к нему близко.
— Ну, что же, Федор Антонович, — подумав, сказал Евдокимов. — Попробуйте этот путь. Когда свадьба, то есть встреча с Комаром?
— Послезавтра.
— Хорошо. Давайте уточним другие варианты и детали операции. Ждем вашего сообщения о конкретных планах Цупкома не позднее 25 апреля.
За полтора года работы в ЧК у Федора сложились свои убеждения и правила. Поначалу ему казалось, что главное в профессии чекиста — интуиция и импровизация. Первое же дело, в котором он принял косвенное участие — арест на конспиративной квартире деникинского агента, — заставило его пересмотреть такую крайнюю точку зрения: два молодых чекиста, один был другом Оксаненко, поплатились жизнью за лихое пренебрежение необходимой осторожностью, за юношескую самоотверженную дерзость. «Уметь все предвидеть», — думал тогда Федор, тяжело переживавший гибель друзей. И лишь теперь он понимал, что предвидение и импровизация не противоречат друг другу, а помогают. Разведчик, сумевший правильно предвидеть главное, получает большую свободу импровизации в новой и незнакомой обстановке.
…Предчувствие не обмануло Федора.
На свадьбе он только делал вид, что пьет, а сам лишь старался быть оживленным и заметным, понимая, что внимание привлекает как раз тот, кто среди всеобщего веселья и праздничной суеты сидит бирюком. Именно к таким пристают с выпивкой, требуют объяснений, побуждают к скандалам.
Особенно внимательно присматривался Федор к Даниле, который, как всегда, претендовал на роль души общества и, по правде сказать, не без успеха. Федор молча и одобрительно улыбался ему. Когда же Данила, многозначительно попросив внимания, провозгласил тост за то, чтобы «мы всегда пили вот эту нашу — нашу! — добрую горилку, а не московскую водку», — Федор встал и пошел к Даниле с полным стаканом.
— Это ты хорошо сказал.
Данила видел серьезные и даже удивленные глаза Федора и блаженствовал. Имея репутацию отчаянного смельчака, он сам не очень-то ценил ее: дешево давалась. Зато высоко ставил остроумие, завидовал умным людям и теперь в душе торжествовал над Федором, думая, что тот завидует.
— Сказал хорошо, — более мрачно продолжал Федор, — но этикетки на бутылках менять все-таки придется.
— Федор! Федор, — укоризненно зашептал Данила. — Ты ли это, боевой друг, говоришь? А? Может, устал, застоялся без дела?
— Не кори ты меня, Данила, — поморщился Федор. — О каком деле ты говоришь? О чем вообще говорить теперь можно?
— О деле! — крикнул Данила и кулаком ударил себя в грудь. — О настоящем деле, Федор! — он внимательно посмотрел в глаза Федора: понимает ли, — и уже сентиментально спросил: — А ты где, боевой друг?
— Смотря как спрашиваешь, — серьезно и многозначительно ответил Оксаненко. — Просто, — он сделал вид, что замялся, и продолжал, — …как Данила Комар? Тогда я поговорю с тобой — и точка. Понял?
— Да ты же умница, Федор, — восхищенно зашептал Комар. — За то я и люблю тебя! — Он обнял Федора, крепко прижал к себе и так стоял с закрытыми глазами около минуты. — Я сведу тебя с кем надо.
— Подожди-подожди, — остудил его Федор. — С чем я приду? Два года как не встречался ни с кем из фронтовых друзей, не ел каши из одного котла…
— Я сказал — сведу, значит, сведу, — решительно перебил Комар. — Ты что, не знаешь моего слова? Я поручусь за тебя Чепилке! Я сам! Понимаешь? Сам!
Не надо преувеличивать проницательности Федора Оксаненко, но главное он научился угадывать: Комар, пообещав ввести его в Цупком, должен был, по предположению Федора, пойти на все, чтобы представить своего фронтового друга и спасителя как самого надежного человека. Так оно и случилось. Данила приврал руководству Цупкома, что еще зимой, скрываясь, не раз ночевал у Федора и что тот не принимал участия в активных действиях только потому, что долго болел. Последнее было правдой: Оксаненко чуть ли не год пролежал, несколько раз перекочевывая из дома в больницу и обратно с тяжелым плевритом — сказались последствия грудного ранения. Поэтому весь рассказ Комара показался председателю Цупкома Чепилко и его заместителю Наконечному вполне убедительным, а кандидатура бывшего поручика очень подходящей для активной и серьезной работы. Такие были нужны и сейчас. Тем более могли они понадобиться для открытого выступления: среди нынешних атаманов повстанческих отрядов — даже довольно крупных — многие вовсе не имели военного образования и фронтового опыта.
Спустя несколько дней Федор уже присутствовал на ответственном совещании Цупкома.
…Над Киевом плыл многоцветный пасхальный перезвон. Вереницы горожан и крестьян из ближних деревень тянулись к заутрене. Уже засветлело, и Оксаненко, всматриваясь в прохожих, замечал на лицах — или ему это казалось — ожидание каких-то перемен в жизни. Он тут же внутренне одернул себя. Какие, мол, там перемены: нет, не о переменах, а наоборот, о постоянстве должно мечтать большинство мирных обывателей большого города — вполне объяснимое желание людей задерганных, утомленных неустойчивостью жизни.