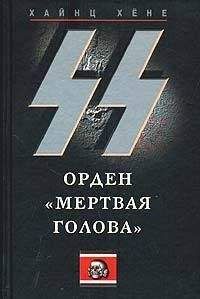О конфликте с «пруссаками» мы уже забыли: «Да, впрочем, не такой уж он и плохой, этот простофиля!» На самом деле это было началом примирения. В конце его последовало приглашение штирийца в дом своих родителей (и сестры!) в Берлин. Он был острым на язык, и реакция в разговорах была молниеносной. «Бог за того, у кого нет шансов!» — было общим мнением. Унтерштурмфюрер Градль с удовольствием наблюдал за происходящим. Он действительно добился того, чего хотел.
Прошло несколько недель. С утра до вечера мы стояли под парами. Наш шарфюрер Фетт стремился с отчаянной ожесточенностью сделать из нашей маленькой компании дисциплинированную группу. Честно говоря, если бы я оказался перед фронтом, то и меня при виде наших неуклюжих фигур покинул бы всякий боевой дух. Хотя наше обмундирование до некоторой степени было подогнано, оставалось изменить еще кое-что. Для нас было непостижимо, почему современная армия, которой должна стать немецкая, прочно держится за непрактичные традиционные вещи, такие, как галстук и огромные сапоги, прозванные «болотоходами». Зачем сохранять их для будущих поколений? Галстук — это предмет одежды? Нет. Украшение? Нет! Это что-то лишнее, предназначенное для того, чтобы семь раз в неделю его начищать. Это мучение, которое солдат вешает себе на шею и цепляет за подтяжки, если они у него есть. А если их у него нет, то эта серо-зеленая полоска( ткани висит крохотным лоскутом перед шеей, незакрепленная, выше или ниже адамова яблока, «в честь народа, для обороны от врага». Если она все же закреплена как полагается, то она маскирует наличие серо-полевой рубахи вместо неприглядной безворотничковой белой рубашки. При строевых упражнениях эта шейная повязка еще держится, но при боевой службе она становится вскоре самостоятельной. Тогда она может перекочевать на спину или куда-нибудь еще, и в полном смысле слова висит на шее. «Болотоходы» врезаются краями голенищ в подколенные впадины, перекрывают кровообращение в ногах, висят на ногах, словно свинцовые, и защищают от затекания грязи — в глубоком песке, который при наших перебежках и переползаниях засыпается нам в голенища.
Все чертовски устарело и в нашем вооружении. У нас все еще «легкие» пулеметы с водяным охлаждением времен мировой войны — страшно тяжелая штука, трудно обслуживаемая и не желающая работать, со своими постоянными заеданиями при заряжании. 8-я рота, состоявшая преимущественно из венцев, мучилась с еще более увесистыми «тяжелыми» пулеметами и прилагающимися к ним станками. Догадается ли кто-нибудь из оружейных конструкторов применить воздушное охлаждение, как у пистолетов-пулеметов?
Тем временем были построены наши казармы — все-таки какое-то светлое пятно в лагерной жизни. Не потому, что я имел что-то против красоты новых бараков — другие подразделения жили в них и добровольно не хотели переезжать, настолько удобно они были обустроены, — но чтобы 50 человек скучить в одном помещении для проживания, несения службы и сна — просто вообразить себе невозможно. Наше отделение из 12 человек получило одну комнату на четверых и одну — на восьмерых. Там тоже стояли двухъярусные кровати, но с новыми матрасами вместо (довольно удобных) мешков с соломой, достаточно большими столами с табуретами и двустворчатым шкафом на каждого. Мы постарались сделать казарменный стиль как можно более уютным. Вышитые цветами чистые скатерти, пейзажи нашей родины на стенах и портреты наших девушек в шкафах несколько скрашивали казённую обстановку. На стене висела гитара, а в одном из еще пустых шкафов стоял великолепный аккордеон. Он принадлежал Францу Унгару из штирийского Обдаха. Дома он работал помощником лесничего и охотника и часто рассказывал охотничьи байки об опаснейших охотах на серн, прекрасных оленей и охотничьих пьянках, участия в которых он, по-видимому, никогда на самом деле не принимал. К большому своему сожалению, в строю он был последним. Впереди стоял длинный Шимпфёзль, костлявый и худой, как жердь, дровосек из Тироля. Мы над ним подтрунивали, что в СС он пошел от голода. Справа от меня тогда стоял Карл Вольшлагер из Зальцбурга, а затем шли еще девять человек, имена которых приводить не стоит, потому что они были неспособными стать солдатами, как говорил наш унтершарфюрер Фетт.
Вместе с нашим 3-м отделением в нашем первом взводе было еще 2-е — унтершарфюрера Вешпфенни-га, которому мы все завидовали, и 1 -е отделение унтершарфюрера Хельмута Пандрика. Этому отделению мы не завидовали совершенно, ему мы откровенно сочувствовали. Но первое было лучшим в роте. Безукоризненные во всем — от койки до ватерклозета, всегда подтянутые, даже когда спали, их уши ровнялись в линию, и подбородки лежали на галстуках. И все же они были бедными свиньями, отданными на милость садисту. Пандрик, в отличие от слегка небрежного Вешпфеннига и иногда снисходительного нашего командира отделения, был суперсолдатом. Весь его вид был чрезвычайно неприятным. Глаза слегка навыкате, тонкие губы и лицо, по которому никогда не проскальзывала улыбка, выражали жесткость и абсолютную решимость или скорее свирепость. Живодер, любящий свое дело. Он не нравился никому, и он чувствовал это. В противоположность ему наш унтершарфюрер Фетт был совершенно безобидным начальником, который время от времени пытался играть в жесткого человека. Тогда он ужасно орал на всю казарму для устрашения остальных отделений.
Служба была суровой и не давала никакого снисхождения на нашу (мою) молодость, или была как раз суровой по причине нашей молодости.
Распорядок дня с понедельника по пятницу выглядел таким образом:
05.00 — подъем
05.05—05.30 — зарядка
06.30—07.00 — уборка помещений и территории
07.00—12.00— утренняя поверка, затем строевые занятия
13.30—17.00 — тактическая и огневая подготовка
17.00—18.00 — чистка оружия и починка обмундирования
19.00—20.00 — занятия (боевая техника и вооружение, гигиена, национал-социалистическое мировоззрение)
21.00—22.00 — уборка помещений (умывальника, туалета, помывка пола)
22.00 — прием помещений дежурным унтерфюрером.
Если до этого всё не блестело чистотой и кто-то не успел лечь в койку, начинались ночные занятия, или час «бал-маскарада». Естественно, некоторые предметы в расписании перемещались, иначе мы стали бы чисто «послеобеденными воинами».
На вечерних занятиях мы с большим трудом пытались не заснуть. Когда на занятиях по военной гигиене в десятый раз вели тему «закаливание ног холодной водой», «поведение с женщинами за воротами казармы» с рекомендациями использовать во время процесса 14 листков туалетной бумаги, какое-нибудь усталое тело падало с табурета, что сразу же влекло за собой пробежку по ночному сосновому лесу.
В субботу с 15 часов полагалось свободное время, точно так же, как и все воскресенье, исключая уборку территории и помещений. По воскресеньям и праздникам подъем был в 7.00.
Наш кривоносый старшина, однако, всегда находил возможность занять нас полностью и в эти дни. Он просто назначал на субботнем заключительном построении в 15.00 проверки оружия, обмундирования, снаряжения и помещений на 7.00 понедельника. Это, естественно, означало, что остаток субботы и все воскресенье мы должны потратить на то, чтобы вычистить тиковое обмундирование до каждой ниточки, вылизать детали оружия до самых потаенных внутренних уголков, отдраить в казарме полы с пемзой и скребком, вымыть окна, чтобы в понедельник к 7.00 встретить любую проверку во всеоружии. Нашего старшину штабсшарфюрера Брёмера мы за милую душу могли бы отправить к черту. Однако он не был Пандриком! Он, очевидно, очень хорошо знал, что чувствуем мы, молодежь, когда у нас остается время для раздумий и хождения без дела. Как только первое наиболее трудное время подготовки миновало и по выходным иногда стало появляться свободное время, но еще нельзя было покидать казарму, я начал страдать от ужасной ностальгии. Ребенок в моей душе сопротивлялся тому, чтобы войти в мир взрослых и быть ему безусловно выданным. Я мечтал о нашем буковом лесе, в котором знал каждый уголок, о колодце под вековой липой, где мы собирались по вечерам, об узких кривых переулках, любимом городе и его красивых девушках, на которых я тогда только начинал смотреть другими глазами.
И я первым покинул эту дружескую атмосферу. Парни из моего окружения за редким исключением были детьми рабочих. Роскошь была нам чуждой. Летом мы босиком бегали по горячим камням мостовой, лугам и полям. Мы воровали яблоки из крестьянских садов, чтобы потом насладиться ими в каком-нибудь укромном месте. Ловили руками форель и белорыбицу в Урльбахе и запекали их на угольях, купались в ледяной воде Иббса, короче говоря, мы были завзятыми озорниками.
А теперь? Прощай, детство, и ты ввергнут в мир строгой холодной законности.
В те дни мы должны были по почте выслать домой нашу гражданскую одежду. Я делал это с тяжелым сердцем, как будто надо было расстаться с чем-то старым и любимым. Пуповина, соединявшая меня с гражданской жизнью, была окончательно перерезана.