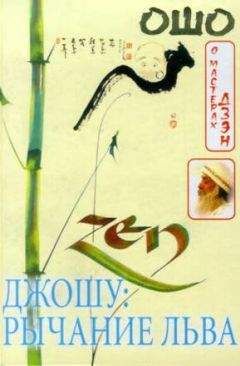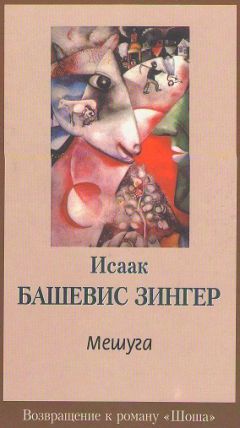Над его головой гремели выстрелы. Он слышал, как один бандит кричал другому:
— Уходим, Женька, уходим!
Скоро все затихло. Кто-то стонал рядом.
Вольских тронул Марика за плечо:
— Жив?
Марик осторожно открыл глаза.
— Жив значит… Сам идти сможешь, — сказал Вольских с утверждением, даже где-то с нажимом. — Надо уматывать. Ну и материал у меня… С такими союзниками — никаких врагов не надо.
* * *
Переговоры закончились плачевно. Из троих подпольщиков, взятых Вольских на переговоры, двое оказались ранеными, причем один — довольно серьезно. К тому же на шум немцы подняли тревогу, прикатили на двух "Ганомангах". Вероятно, и взяли бы след, да ночь спускалась темная, осторожность все же победила любопытство. Стреляли бы по немецким солдатам — тогда бы все перевернули вверх дном, а тут ничего не ясно — кто с кем, из-за чего.
Нашли пару гильз "para", но это ничего не объясняло — с оружием под этот патрон ходило больше половины Европы.
Колесник тоже остался недоволен. Когда отдышался, осмотрел себя:
— Ну вот, штаны испортил, продырявил…
— Зато шкуру нам не продырявили.
* * *
Чем ближе ко дню отправки, тем сильней напрягались нервы у Ланге. Внешне он был верен образу нордической личности. Шутил, улыбался, костюм и прическа оставались безупречными. Но внутри все туже и туже сжималось предчувствие беды. Казалось — напади на банк кто, поймай иного карманника хоть у стен банка, хоть бы стекло разбили бы — стало бы спокойней на душе.
Но нет — ловили воров среди железнодорожных пакгаузов, убили одного диверсанта при налете на противовоздушную батарею. А возле банка все оставалось тихо.
Из своей комнаты возле комендатуры, он перебрался в банк. Спал на втором этаже, в кабинете управляющего, на диване. Диван был обтянут кожей и она противно липла к его рукам. Пробовал накинуть простыню, но на коже она быстро сбивалась, сползала.
Наконец, нервы у Ланге не выдержали окончательно — в один день к банку подъехали грузовики. Из них начали спрыгивать на землю солдаты.
Из окна кабинета Бойко рассмотрел на нашивках сдвоенные молнии:
— У-у-у… СС. А что ж так плохо?
— Это не карательный отряд, — ответил Ланге. — Это Waffen SS, боевая часть. Гвардия, если хотите — ребята прошли Европу, Африку, брали не один город. Они знают свое дело.
Прибывшие разошлись по зданию, осмотрелись делово, постояли у окон, прикидывая зону обстрела, разместились по лестницам. В вестибюле сложили ящики с запасными обоймами, на подоконниках разложили гранаты, расставили пулеметы — разверни ствол и посыплется стекло. Самые расторопные уже тащили в банк мешки, набитые песком, будто готовились к длительной осаде.
Даже спали они тут же, в подвалах, прямо у деньгохранилища, укрывшись шинелью и во сне сжимая цевья карабинов.
Но Бойко все равно остался настроен критично:
— Не хочу вас растраивать, Отто, но две дюжины бандюков вынесут всю вашу охрану в одну калитку вперед ногами. Не знаю, чему и как учились ваши солдаты, но наши бандиты стрелять начали лет с десяти, из оружия, кое и стрелять не может по определению.
— Это как?
— Да очень просто. В шесть лет будущий бандит стреляет из рогатки, в десять обрезок водопроводной трубы набивают серой, в двенадцать на станке в ФЗО мастерит "дуру" — однозарядный пистолет. Те, кого не убивает первым выстрелом, начинают искать себе настоящее оружие. И к четырнадцати они уже практикуются из собственного "Нагана". До двадцати доживают самые талантливые…
— А сколько лет Колеснику?
— Где-то тридцать пять.
— Как и нам, кстати… Так что наши шансы небезнадежны. К слову, а как вы думаете, сколько людей навербует Колесник?
— Думаю, от пяти человек… Скорей — семь-восемь. Но никак не больше десяти.
— А почему бы ему не собрать две дюжины и, как вы выражаетесь, "вынести"?
— Во-первых, собрать столько профессионалов сейчас трудно — война же… Во-вторых, если сюда ворвется две дюжины, то человек шесть ваши орлы все же положат. Это недопустимый уровень потерь. Ну а третья и самая главная причина — это жадность…
— Не понял?
— Жадность, — повторил Бойко, — многому виной жадность. Скажи человеку: тебе хватит двести тысяч? Он ответит утвердительно. Но поставь вопрос иначе: тебе достаточно пятой части от миллиона. И он начнет задумываться: ибо лучше получить от миллиона четверть. Еще лучше половину, миллион, наконец. Колесник предпочтет делить деньги на как можно меньшее количество долей.
— Или не делить вовсе?
— Нет, если он не поделит сейчас, то в следующий раз с ним никто не свяжется.
— Мне думается, сумма здесь более чем достаточная, чтобы уйти на покой и ни о чем не жалеть.
— Я много думал на эту тему…
— И?..
— Воровство порой превращается в спорт. Человек получает сумму, но быстро ее тратит для того, чтоб рисковать опять.
— А вы сами воровали? Говорят, в хорошем сыщике умер хороший вор…
— Возможно, — осторожно ответил Бойко. Но недостаточно осторожно.
— Каким бы вором были бы вы, если бы воровали…
— Отчего "бы". Я воровал… Если не поймали, то, вероятно, был вором неплохим.
— Воровали?..
— Ну да, у нас воруют все и всегда, — Бойко задумался и добавил, вероятно, слова чужие, услышанные с какой-то оказией, — я не патриот, хотя и ворую… В детском доме еще начал. Крысячничеством, конечно, не занимался. В смысле, у своих не воровал. А у государства отчего не взять. Оно ведь народное, значит, немного и мое… Я просто помогал адекватно распределять.
* * *
В тот же день и Бойко нанес свой визит. Спустился в нижний город, но в Шанхаи заходить не стал, а прошел меж заборами в промышленную зону, где когда-то ютились маленькие заводишки и артели. Теперь там царило запустенье — при отступлении советская армия успела пустить петуха. Что-то потушили, но многое горело. Еще больше просто бросили.
Бойко зашел в артель гробовщиков. Впрочем, от артели остался только один мастер — старик седой и бородатый, чем-то похожий на Бога в советских карикатурах.
Спал прямо в гробу, укрывшись крышкой. Однажды в артели пошутили, и пока он спал, примотали крышку бечевой.
Проснулся, толкнул крышку — та ни в какую.
В гробу он поседел за полчаса, пока остальные артельщики давились от хохота. Пролежал бы и больше, но обман выдала собака, залаявшая в соседнем дворе.
Бойко и гробовщик дружили молчаливой дружбой, иногда встречаясь у третьего знакомого, хирурга, пили казенный спирт.
Порой, изъяв из убитого какой-то орган для анатомического театра, хирург бросал на поднос помятую пулю.
— Это твое… — говорил он Бойко, а затем указывал на покойника гробовщику, — а это твое.
Работать с государством гробовщик любил. Платили немного, но всегда вовремя. И, что характерно, на халтурную работу смотрело сквозь пальцы.
Покойные за номером и без имени, клиентами были не хлопотными. Встретив смерть в одиночестве, и на кладбище они отправлялись в компании ровно стольких людей, сколько надо, чтоб достаточно было вырыть могилу и опустить гроб.
И никакой родственник не жаловался на качество гроба, дескать, доски тонкие и подогнаны плохо. И что гроб, скажем, покойному тесноват, и чтоб положить его в эту коробку, пришлось голову повернуть набок и ноги согнуть в коленях.
Бывало, конечно, имя находило безвременно ушедшего. Его извлекали из-под земли, хоронили в другом гробе на ином кладбище.
Но какие в таком случае могли быть претензии к гробовщику? Какой гроб вы хотели за государственный кошт?
Когда началась война, Бойко записался добровольцем, хирург ушел в полевой госпиталь, и его, вроде бы, видели где-то под Миллерово.
Но, вернувшись в город, Бойко опять сошелся с гробовщиком. Отчего-то верил он этому старику. Этот не сдаст, не проговорится, потому что неразговорчив до такой степени, что не поймешь: то ли немой, то ли просто говорить не любит.
Войдя, Бойко поздоровался. Старик только кивнул.
— У меня к тебе работа… Нужно много ящиков. Доски завезут тебе завтра утром… Распустишь на полудюймовую доску, и чтоб без щелей.
Гробовщик вопросительно посмотрел на Бойко. Тот поспешил успокоить:
— Нет, не гробы… Заплатят тебе по десять марок за каждый день работы, — Бойко порылся в карманах и достал бумагу, полученную от Ланге, — здесь размеры и количество.
Гробовщик принял бумагу, просмотрел и кивнул.
— Я тоже считаю, что это хорошая цена, — согласился Бойко. — Не спутаешь размеры?
В ответ его собеседник покачал головой: нет, не спутаю. Бумага писана немцем, но ведь цифры-то интернациональны.
— И еще просьба. Сделаешь сверх заказа два маленьких ящика, из своего материала. Я и расплачусь по-свойски. Хорошо?
Старик кивнул.