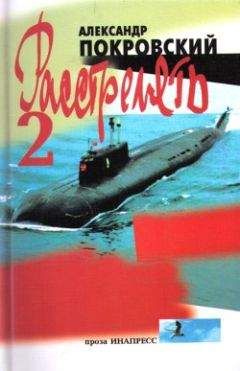А сколько всякой живности бродит по листам: и задумчивая тля, и всякие там нагруженные заботами кобылки, и, конечно же, пауки.
А вот и пчелы прилетели. Осмотрели, нет ли чего, погудели-полетели.
А пауки очень пугаются, если их взять на руку,— тут же хотят улизнуть, а рядом на камешке давно уже лежит ящерка, а заметить её можно только по брюшку, которое раздувается и опадает — вдох-выдох.
А если перевернуться на спину, то на тебя сейчас же надвинется небо. Навалится. Синее. И кажется, это оно специально придавило тебя к земле. Уж очень густой у него цвет. Кажется, оно говорит: «Лежи не двигайся, иначе ты всё сломаешь».
И я лежу. Без мыслей и, главное, без тревог.
Море, лето, прохлада и каркающие чайки
Лодка встала в док. Конечно же, под субботу и воскресенье. Мы становимся в док не иначе как под субботу и воскресенье и не иначе как с той целью, чтоб не дать людям выходной. И списки на выход с завода не подготовили. В общем, сиди и пей. Можешь ещё с перехода морем начать. Начать-то можно, только пить нечего: специально не получили на корабль спирт, чтоб его в доке весь не выпили.
Мда-а… ну, если нет спирта, тогда мы пьём чай, причём до одури. А гальюн закрыт. Только лодка встала в док (и даже не в док, а когда она ещё в створе — на пути туда то есть), как на ней закрывается гальюн, чтоб на стапель-палубу не нагадили. На замок закрывается. Конечно, как говорят братья надводники: «Только покойник не ссыт в рукомойник»,— но ведь все об этих наших способностях знают, и потому воды в кране нет, чтоб потом залить это дело: снята с расхода.
Мда-а… тогда приходится затерпеть, зажаться часов на восемь, пока лодка не встала на кильблоки, пока воду не спустили, пока леса на корпусе не возвели и пока лестницы не подкатили. Терпишь, терпишь — и вот… «Разрешен выход наверх!» — пулей туда по трапу, колобком до стапеля, а там уже начинается «барьерный бег»: надо перелезать через рёбра жёсткости, и бежишь, торопишься, задирая ножку, и перелезаешь через рёбра жёсткости, которые в высоту доходят до одного метра, добираешься до конца, где имеется тот самый, погружаемый вместе с доком гальюн, в котором приборку делает во время погружения великое море, но ты в него не бежишь — исстрадался; от нетерпенья ты становишься на самый краешек дока, открытый всем ветрам, а море — вот оно, у ног, и ты — роешься, роешься, роешься у себя внутри в штанах, роешься, перетаптываясь, и находишь наконец там всё, что и требовалось, и вытягиваешь его и…— о Господи! — воешь от восторга и от ощущения жизненной теплоты.
Ночью хуже. Ночью проснулся, сгруппировался, сполз с коечки, оделся, выполз из каюты, потом через переборку нырнул, задел её обязательно башкой, потом по трапу вверх, потом долго до стапеля и только потом уже — «барьерный бег». (Секундочку! Минуточку! Не бросайте чтение. Сейчас пойдёт основная часть!)
Так вот: Юрий Полкин, командир группы дистанционного управления, стоя вместе с лодкой в доке, в четыре утра, после того как он с вечера накачался чаем, проделал все эти акробатические номера только для того, чтоб, сами понимаете, добраться до моря. Юрик добрался до моря и встал там на торце. Лето, тишь, каркающие чайки, прохлада, море и Юрик, стоящий на самом краешке. А море — вот оно, между ног, чуть не сказал. И Юрик, вот он, в общем-то там же. Стоит и спит. Он уже нашёл у себя там внутри всё что надо, вытянул всё это на поверхность и теперь, убаюканный падением капельноструя, спит, паразит. И тут всплывает нерпа. Она всплыла так бесшумно, как может всплыть только нерпа. У ног спящего паразита Юрика. И капельноструй юриковский запросто попадает нерпе в лоб. Нерпа удивляется, увидев над собой нашего Юрика, да ещё в таком неожиданно-хоботном варианте, и, удивившись, делает так: «Уф!» — и Юрик открывает глаза.
Надо вам сказать, что нерпа была похожа на лодочного боцмана. Поразительно была похожа: такая же коричневая, лысая, круглая и усатая, и это «Уф!» — точно как у боцмана. Юрик как только увидел нерпу, похожую, как две капли, на боцмана, перед собой, да ещё когда попадаешь этому боцману прямо в лоб,— так, знаете ли, чуть не выронил себя, чуть не посерел, не поседел и не потерял сознание от ужаса, ножки у него сами собой отломились, и он трахнулся задом о палубу и от слабости остался на ней сидеть, не поднимаясь.
Нерпа давно исчезла, а Юрик всё сидел и сидел, а из него всё лилось и лилось, и откуда бралось то, что лилось, я не знаю, но долго лилось, чёрт!.. А вокруг — это, как его, море, лето, прохлада и каркающие чайки.
В нашем рассказе будет три действующих лица: боцман, гальюн и лодка.
Сейчас два из них дремлют в третьем, но вы увидите, как ловко мы выудим их на свет Божий.
Средиземное море; солнце в полуденной дрёме; вода тиха, и прозрачна, и голуба, как в ванне с медным купоросом; водная гладь нестерпимо сверкает; штиль и воздух.
«По местам стоять к всплытию!» — и огромная лодка всплывает в сонме солнечных зайчиков.
Палуба ещё улыбалась лужами, когда на ней появился боцман. Он наладил беседку, опустил её за борт, оделся в оранжевый жилет и, зацепившись карабином, полез к своему любимому забортному заведованию.
Вода где-то рядом ласкалась, и какие-то рыбки резвились. Боцман засмотрелся на рыбок. Мысли его повисли. Солнце залезло на спину и разлеглось на лопатках. В одно мгновение оно сделало своё дело: боцману стало тепло и расхотелось работать. В голове его вихрем пронеслась дикая смесь из золотого пляжа, бронзовых женских тел и холодного пива.
Слюна загустела и скисла. Боцман очнулся и с досады размашисто плюнул в Средиземное море. Рыбки бросились в стороны, и обрывки боцманской слюны зависли в волнах.
Боцман взглянул на волны, подумал и… высморкался.
Всего два тысячелетия назад такое неуважение дорого бы стоило мореходам: в те времена из моря с грохотом появлялось чудище в бородавках и с хрустом поедало обидчиков, и как только все бывали съедены, пучина поглощала корабль.
Боцман собирался ещё раз плюнуть насчёт разного рода обросших суеверий, и тут… море под ним заворчало: в глубине произошло движение; мелькнуло что-то длинное, толстое — шея чудовища!
— Мама моя,— поперхнулся присевший внутри себя боцман, вылезая глазами.
Первобытный холод облил спину, кольнул поясницу, забрался между ног — да там и остался!
Заворочалась, зашевелилась кудлатая бездна; ударил гул; глаза у боцмана вылезли вовсе. И тут уже бездна взорвалась, встала стеной, протянув свои щупальца к небу.
Разбежалась зелёная пена, и в пене, напополам с дерьмом, родился вцепившийся боцман.
«Что это было?» — спросите вы, незнакомые с флотской спецификой.
Отвечаем. Было вот что: очень сильно продули гальюн.
Если б вы знали, что за лысина у Сергей Петровича! Чудо! И она совсем не то, что у некоторых, ну хотя бы не то, что у нашего старпома, которая вся в щербинах, болячках, родинках, кавернах, струпьях и каких-то невыразительных прыщиках.
Нет! Лысина Сергей Петровича — это нечто розовое, гладчайшее, напоминающее этим своим качеством, проще говоря, свойством, никелированную елду со спинки старинной железной кровати с ноющими пружинами, и по этой причине её легко можно было бы отнести к инструменту, может быть, даже духовому, кабы не её теплота.
Да! Вот уж теплее места на всём его теле не нашлось бы — хоть всего его общупай,— и поэтому возможно было бы, примерившись, хорошо ли всё это выглядит со стороны, поместить на неё для последующего отогревания сразу две онемевшие от непогоды девичьи ступни, находись такие в интимнейшей близости, или четыре ладони.
Но полно об этом! И другие части Сергей Петровича нетерпеливо дожидаются неторопливого нашего описания. Вот хоть его борода — то не клочья какие-то, нет! — то борода царя Давида, Соломона или, может быть, Дария (а может, и Клария), но только вся непременно в колечках и завитушках до середины грудей. И если на голове у Сергей Петровича ни одной волосины, то борода поражает густотой и плотностью рисунка.
А уши! Видели бы вы его уши! Это даже и не уши вовсе, а я даже не знаю что. Ужас как хороши! Они у него такие нежные — просто хочется взять и оттянуть. Они немного напоминают крылья новорождённого мотылька — оттого-то их и хочется сцапать.
А нос? Это даже несколько неприлично было бы сравнить его с чем-то, кроме как с клювом казанского сокола, который тем и отличается от клювов всех остальных своих собратьев, что уж слишком колюч и продолжителен. И если Сергей Петрович попробует языком достигнуть его самого кончика, то заодно он легко выскоблит и каждую из имеемых в наличии ноздрей.
А в глазах Сергей Петровича — голубых, из которых один вдруг, фу ты пропасть, раз! — и поехал куда-то в сторону,— никак не учуять души. Разве что иногда мелькнёт в них нечто вечернее, вазаристое, то, что легко можно принять за её проявление,— не то интерес, не то жажда наживы.