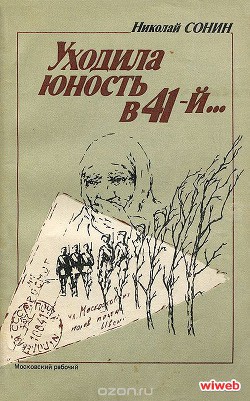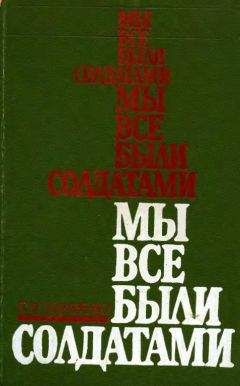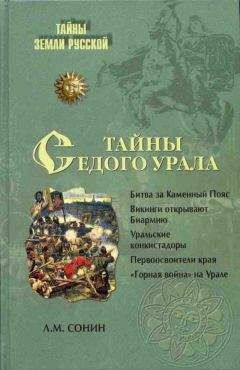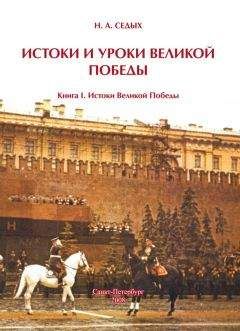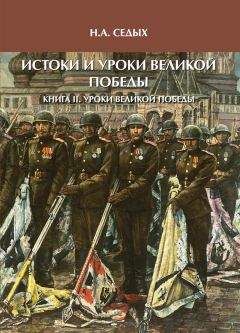побывавший, по всей видимости, вместе со своим хозяином не в одной переделке.
Мы с Василием Гуляевым лежали на своих нарах. Под потолком горели тусклые
лампочки. Тяжелое чувство [150] безысходности владело нами. Василий первым
нарушил молчание:
— Ты про римских рабов читал?! — И тут же горячо зашептал: — Бежим, Коля!
Хоть ценой жизни, но бежим!
Ночью мы не сомкнули глаз. Перешептывались, строили планы и отвергали их. Не
знали мы, что наш разговор подслушивал один из провокаторов, которых фашисты
внедрили среди военнопленных.
Утром в казарму явился охранник и объявил:
— Номер 2728 и номер 2729 — на выход, ко мне!
Это наши с Василием номера, это — мы!.. Что делать, куда скрыться? Номера у
нас на гимнастерках. Обозначены на кусочках фанеры. Я сразу понял: нас подслушали
и выдали.
В комнате, куда нас завели, царил полумрак. За столом сидел молодой офицер в
коричневой униформе. Значит, мы попали в СД — службу безопасности. Офицер
неплохо изъяснялся на русском языке. Играя карандашиком, насмешливо спросил:
— Значит, в лагере не нравится? Вздумалось бежать? С кем еще дело имеете?
Впрочем, узнаем. — И, глянув на солдата, приказал: — Безухен!
Уже потом, перебирая в памяти весь свой скудный запас немецких слов, наконец,
отыскали: безухен — значит, опасный!
Солдат гаркнул: «Яволь!» — и повел нас по коридору. Вскоре мы с Василием
оказались в каменном мешке. Голые стены, высокий потолок, забранное металлической
решеткой окно. В камере еще семь узников, таких же, как мы, худых, изнуренных,
полуодетых. Среди них выделялся высокий, неразговорчивый и вместе с тем
привлекательный своими добрыми глазами мужчина. Позже, когда сошлись ближе, он
отрекомендовался капитаном Леонидом Озеровым. Это имя запало в мою память на
всю жизнь!..
Леонид мало распространялся о себе. Он, повторяю, вообще мало разговаривал, и
если уж вставлял слово — было оно дельным и веским. Леонид Озеров пользовался у
всех нас в камере безраздельным авторитетом.
Проходил день за днем. К нам никто не являлся, никто нас не тревожил, но все это
время мы не ели и не пили. Стало ясно: фашисты обрекли нас на голодную смерть, как
на одну из разновидностей своих расправ над узниками. [151]
В камере не было ни стола, ни кроватей или топчанов, ни табуреток. Ложась
спать, мы снимали плащ-палатки и клали их на цементный пол. Спали, тесно
прижавшись друг к другу.
Большое зарешеченное окно выходило на дорогу, которая по ночам ярко
освещалась фонарями. В десятке метров вдоль дороги тянулся четырехметровый забор
с колючей проволокой наверху. Говорили, что по проволоке пропускается электроток. За
забором находился большой сад. Уходя вправо, дорога упиралась в ворота, возле них —
пулеметная вышка. Дежурство на ней было круглосуточным. Днем мимо нашего окна
часто сновали солдаты и офицеры. Влево за казематом располагались материально-
хозяйственные склады. Направляясь на свои посты, под окном проходили караульные с
разводящим.
В нашей камере площадью в шесть квадратных метров, конечно, было тесно, а в
погожее время становилось особенно душно. Однажды попытались открыть форточку.
Но сразу в камеру ворвался немецкий унтер и принялся колотить нас тяжелой
каучуковой палкой. Это было первым посещением камеры фашистами за минувшие две
недели.
Физические силы истощались. Мы ощущали постоянные головные боли, общее
недомогание, угасающее сердцебиение. Все чаще ложились на пол, чтобы уснуть,
забыться. Как-то Озеров решил поддержать нас гимнастикой. Но едва сделали легкое
упражнение, как двое товарищей свалились в обморок.
Еще в первые дни нашего пребывания в карцере, услыхав звуки и людской говор
за стеной, я спросил у Озерова: кто там? Тот, усмехнувшись, ответил: «Такие же, как
мы». Значит, мы — не одни!.. Это и опечалило, и горестно обрадовало...
Еще день прошел, и истекла долгая, как вечность, неуютная ночь. Чувствуя, как
через окно проникает необыкновенный холод, пробудились рано. Кто-то из нас
поднялся и закричал: «Братцы, снег выпал!» Сразу стало ясно, почему в камере
посветлело и сделалось свежее. Лишь Озеров никак не отозвался на наше оживление.
Он встал и, позанимавшись минуты три гимнастикой, проговорил сожалеюще:
— Наше положение снег вовсе не облегчает. Даже, скорее, наоборот. А вот то, что
сегодня седьмое ноября — об этом нельзя забывать. [152]
Вот это да! В неволе мы забыли о календаре. А Озеров, оказывается, ведет счет
дням. И никто в ту минуту не предполагал, что нам повезет в такой день!..
Вскоре за окном, громыхая по булыжнику, влево к складам потянулась вереница
повозок, груженных дровами. Возчики, в зипунах и свитках, видно из местных
жителей, понукали коней. Разгрузившись, порожняком вернулись и встали со своими
телегами на дороге прямо перед нами. Украдкой крестьяне поглядывали на нас,
приникших к окну. И вот, озираясь по сторонам, стали кидать к нам в окно хлеб, куски
сала и домашней колбасы. Вскоре пришел старший обоза вместе с немецким унтером и
крестьяне уехали, сочувственно прощаясь с нами взглядами, и мы жадно набросились
на еду. Леонид Озеров весело заметил:
— Вот так, товарищи, только в кино бывает. Как говорится, разговелись в свой
главный праздник!
Вечером в камеру поступило пополнение. Привели заросшего бородой человека в
сравнительно чистой шинели. Назвался он интендантом, сказал, что в карцер попал за
азартные карточные игры. Мы с недоверием присматривались к новому узнику.
В ту ночь, едва мы начали засыпать, как один из наших товарищей начал
корчиться и постанывать, держась за живот. Из угла раздался голос интенданта:
«Желудок расстроило? Это, хлопчик, от голода, известно. На-ка пилюлю!»
«Запасливый, — подумал я, — даже нужное лекарство имеет!»
И еще день минул, и еще. Наступило десятое ноября.
Леонид Озеров поднялся раньше всех нас. Сделал зарядку, затем шагнул к окну и
долго стоял там. Подойдя к двери, потрогал решетку на «глазке». Довольно хмыкнул.
Когда недлинный предзимний день клонило к вечеру, Озеров вдруг тихо
заговорил:
— За две недели, товарищи, мы сошлись душа в душу, как единомышленники.
Таиться перед вами не буду, но к тебе, наш новенький, — он пристально посмотрел на
интенданта, — отдельное слово. Вроде непохоже, что ты подослан, но кто знает?
Заранее предупреждаю: замыслишь что против нас, удушу вот этими мозолистыми.
Нам терять нечего. Слышишь?
Тот вытаращил глаза, заикаясь, сказал: [153]
— Я что? Я такой же! Попался на игре в картишки — и только! С чего вы, братцы,
не доверяете мне?
— Тогда слушайте, товарищи! — обратился к нам Озеров. — Нынче воскресенье.
По моим наблюдениям, фашисты сегодня беспечны. Видно, вновь головокружение от
успехов. Даже караульные идут на посты с осоловелыми глазами, уж не говоря об
офицерье. Неужели не воспользуемся? Одним словом — бежим! Нынче же ночью.
Озеров изложил свой план со всеми подробностями. Я и сам заметил, что дверь в
камеру снаружи закрывается на длинный крюк. Как, к примеру, в сельских амбарах. Но
тут крюк вставляется в петлю без замка. А над крюком, в каких-нибудь сорока
сантиметрах «глазок» с решеткой.
— Крюк можно сбросить вот такой отмычкой, — капитан показал длинную
проволоку. — Далее. Выходим из камеры и освобождаем своих товарищей-соседей.
Нас, таким образом, становится вдвое больше. В большой комнате перед основным
выходом в углу стоит стол. Его ставим к внешней двери. Она на замке. В ее верхней
части две фрамуги, в одной из которых разбито стекло. Тут-то, — усмехнулся Озеров,
— поневоле каждому придется вспомнить гимнастику. Наружная дверь никаких