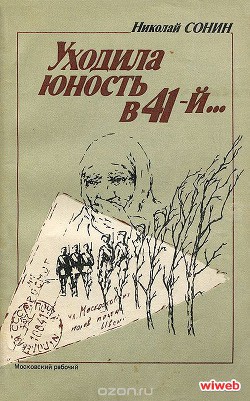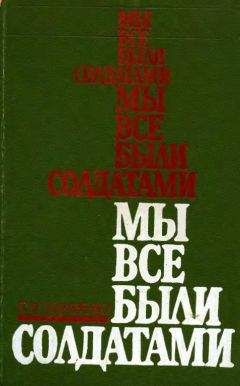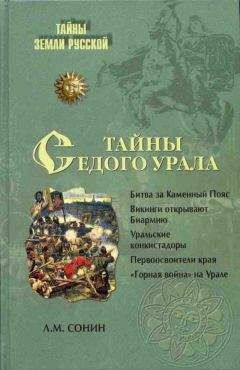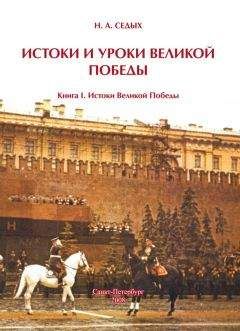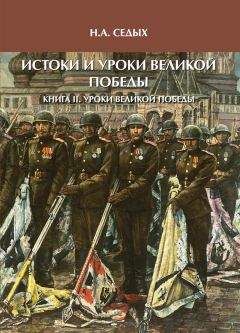людских глаз — опасались погони.
Где-то за полдень, когда мы с Василием шли по проселочной дороге, в северной
стороне услышали отдаленную расстоянием стрельбу. Остановились, прислушиваясь.
Неужели стреляли по ним, нашим товарищам? Их ведь больше, они заметнее. Мы
невольно ускорили шаг, увидев впереди лес. Там нас и застала ночь...
3
Незаметно в хату прокрался рассвет. Ворочалась и что-то шептала на своей
постели хозяйка. Дядька Михалко негромко похрапывал. Говорливый и дотошный, он
мне сразу понравился, как только повстречались с ним в заснеженном лесу.
Разошлись наши дороги с Василием Гуляевым. С тех пор, как мы нелепо
разлучились со своими товарищами, мой друг замкнулся в себе. Видно, переживал.
Наш путь лежал за Кременец. Мы прошли через Берестечко, Радехов, Лешнев, по
тем самым местам, где летом развернулось сражение наших механизированных
соединений с бронетанковыми частями фашистов. Видели пепелища сожженных
селений, остовы сгоревших фашистских и наших танков и бронемашин и по-другому
оценивали масштабы и ярость минувшей битвы.
Ближе к Тернопольщине все явственнее проглядывались людская бедность и
ужесточение оккупационного режима. Хоть добрые люди одели нас по-местному, все-
таки мы все чаще ощущали на себе любопытные, а иногда и злобные взгляды.
Однажды вечером оказались в большом селе. Надо было думать о ночлеге. Зашли
в хату. Хозяева оказались приветливыми. У них находились родственники или, может,
знакомые. Мужчина и женщина. Те рассудили: двоим в одной хате накладно, и с
ночлегом, и с питанием, пусть один пойдет с ними.
Я ушел, а Василий остался. Но едва уселись за стол, как в хату прибежал
мальчонка. Сорвал с головы шапку, быстро залепетал:
— Полицианты забрали и увели того, что був с [158] ним! — указал на меня. —
Маты казала, чтоб другий зараз же тикал.
Хозяйка впопыхах сунула какой-то сверток мне в карман, перекрестилась,
провожая, и скоро оказался я наедине с темной, морозной ночью. Спасался в лесных
чащобах. Пробирался через заносы по пояс в снегу, отыскивая стожки с сеном и обходя
наезженные дороги и лесные хутора.
Как-то вечером, совсем выбившись из сил, набрел на стог и зарылся в сено.
Согрелся, чувствуя, как отходят застывшие ноги и заснул. Утром меня разбудил дядька
Михалко, лесник. Старик ворчал незлобно: «Если б ты на вилах оказался, что бы я богу
сказал на страшном суде?» Кто я и откуда, этим он не интересовался. За дни войны ему,
очевидно, немало приходилось встречать нашего брата.
На возке с дровами и сеном прикатил я в лесной хуторок на широком взгорье близ
села Буща, Мизочского района, что на юго-востоке Ровенщины.
Усиленное прогревание на прокаленной печи дало обратный эффект. Малые и
большие хворости навалились на меня и, чтобы избавиться от них, понадобилось около
двух месяцев.
И вот наконец-то я встал на ноги. В тот день хозяин долго возился с дровами, а
потом отправился в клуню, где тяжелым цепом взялся обмолачивать хлебные снопы.
Вечером он засобирался к соседу покрутить зерно на ручных жерновах. Я навязался в
помощники.
В тесной хате было шумно. Сосед жил с многочисленной семьей, которая вся
оказалась в сборе. Чадила на припечке лучина, и в полутьме как-то особенно зловеще
выглядела физиономия Гитлера на плакатном портрете, висевшем на стене рядом с
иконами. На нем было написано: «Гитлер-вызволитель!» Дядька Михалко, обратившись
к хозяину, попросил:
— Дай его мне. В своей хате повешу. Слышал, что гости из ландервиртшафта
пожалуют ко мне, своему леснику.
Лесник, складывая портрет, мурлыкал себе под нос: «Вызволил ты нас от млынов,
керосина и штанов!»
Вдвоем размололи зерно быстро. Когда возвращались по полю домой, дядька
Михалко достал портрет из-за пазухи, порвал на мелкие кусочки и развеял их по ветру,
[159] говоря: «Еще возле икон поместился, босяк недоношенный!»
Не раз я замечал, что дядька Михалко присматривался ко мне. Как-то даже
пытался вызвать на откровение:
— Скажи, ты боец или...
— Ну да, рыл окопы...
— Вот только мозоли, вижу, быстро от лопаты сошли. Чудно!
На другой день после помола хозяин позвал:
— Идем, до завтрака поработаем.
Едва переступили порог клуни, он плотно закрыл ворота и, перемежая
украинский язык с русским, взволнованно заговорил:
— Бачу, ты хлопец не якись вертихвост. Так знай: наши ворогов от Москвы
турнули. Помнишь, как-то в недилю уезжал я в город на рынок? Там разом с иншими в
лагерь военнопленных наведался. Ох, бедуют там хлопцы! — Он вздохнул и умолк на
минуту. — И вот один из свеженьких, раненым взятый, гомонил мне через проволоку:
дескать, тикают германы без огляду, танки и гарматы бросают. А он вот попал в беду,
поранен, без памяти был. Я им, бедолагам, все, что выменял и не успел выменять, отдал
— съестное, кое-что из одежи. Ты только старухе смотри ни слова! Ведь как она всегда
сокрушается, на тебя глядя! У нас-то сынок тоже на войне проклятой!..
Хозяин выглянул за ворота, а потом вытащил из потайного места бутылку с
прозрачной жидкостью. Крякнул, распечатывая:
— Специально, на добрый случай берег. Теперь настал он. Давай, сынок, за
Червону Армию, за вас, наших хлопцев, чтобы вы выстояли и победили супостатов!
Дай вам бог и нам вместе с вами побольше таких радостей!
Выпили. Тут, в клуне, я и признался дядьке: мол, никакой я не окопник, а
лейтенант Красной Армии и должен быстрее вновь стать бойцом фронта. Он засмеялся:
— Ох, обхитрил, смотри-ка! Я, выходит, не разумел, кто ты!
И посерьезнел:
— Ты поберегись! Как пойдешь на восток, к нашим, знай, что по пути всякую
сволоту встретишь. Какого-нибудь батьку Бульбу, чтоб ему... Инператор ракитненской
каменоломни! [160]
Через неделю я распрощался со своими добрыми хозяевами. Долгими и трудными
дорогами шел я по войне, но дядьку Михалко всегда берег в своей памяти. В
послевоенное время решил узнать, что с ним стало. Из Мизочского райкома компартии
Украины пришло сообщение о том, что «Михаил Лещук как советский активист в
январе 1944 года бандой буржуазных националистов-оуновцев насильственно уведен в
лес, откуда не вернулся...»
А тогда я держал путь на север, пробираясь к Пинским болотам, чтобы потом
повернуть к Днепру.
Иду к партизанам
1
Издалека было слышно, как шумит Припять. Я в какой-то деревне, но по сторонам
ни хат, ни людей. Лишь черные от копоти печи на пепелищах. Два аиста, сидя на
тележном колесе, пристроенном на высокой ветле, тревожно хлопают крыльями.
Может, думают о том, оставаться ли им теперь на старом, годами насиженном и вдруг
безжалостно разрушенном гнездовье или искать новый приют?
Замечаю в сторонке шалаш. У входа в убогое жилище сидит босоногая девочка.
Ей лет десять. Длинные грязные волосы уже давно, видно, не расчесывались.
Платьишко заношено. Девочка испуганно отозвалась на мой зов, вглядевшись в меня,
успокоилась и заговорила поспешно, хотя я ни о чем ее не спрашивал.
Оказывается, сюда фашисты не заглядывали до сентября. А когда приехали, то
стали стрелять из автоматов свиней, собак, ловили кур и гусей, отрывали им головы и
тут же обрывали с тушек перья.
Под вечер немцы ушли. Они угнали десятка два коров.
Через час, когда уже сгустились сумерки, где-то далеко из лесу донеслась
стрельба. А ночью деревня огласилась жалобным, просительным мычанием. Буренки
возвратились домой. Хозяйки, смеясь и плача, ласково гладили кормилиц. Шептались,
будто немцев перебили партизаны. [161]
Таня — так звали девочку — жила с матерью и младшим братом Толей. Отец, как