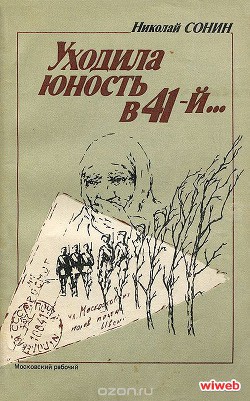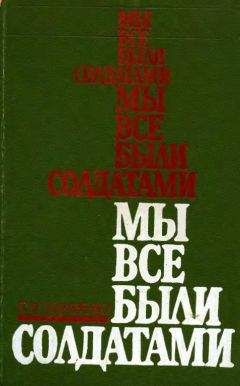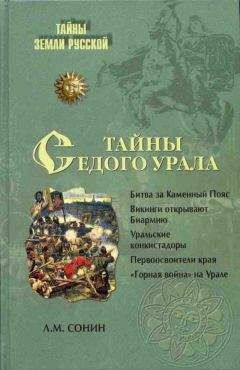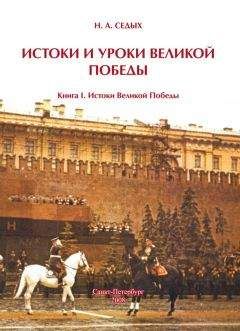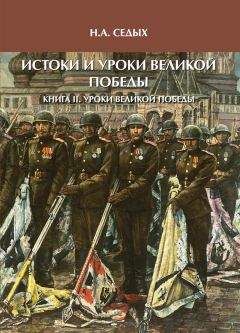только началась война, ушел вместе с другими односельчанами в районный городок
Туров, в военкомат, и с тех пор вестей о нем не было.
В то страшное утро они, как всегда, поднялись рано. Мать хлопотала возле печи.
Брат играл с котенком. Таня сбегала по воду, а потом мать сказала:
— Сходи-ка, дочка, в лес. Грибов набери. Зажарим и позавтракаем.
Девочка миновала огороды, перешла через речку и сразу оказалась в молодой
березовой рощице. Вдруг за спиной как будто гром ударил. Она вздрогнула, застыла на
месте. Совсем близко, не иначе, как в самой деревне, строчил пулемет. Там кричали и
громко плакали.
Девочка бросила корзинку и помчалась к деревне. Выбежала на опушку и замерла
от ужаса: все дома были охвачены огнем. Черным дымом застилало небо. Через
огороды к речке бежали женщины, старики, ребятишки. Бежали и падали. Их
расстреливали солдаты в черных мундирах. Стреляли до тех пор, пока не убили всех...
Таню приютила тетя Мотря, жившая в соседнем, почти дотла сожженном поселке.
Тетка, как и Таня, чудом уцелела от расправы, и сейчас они живут в тесном,
полутемном шалашике. Нынче утром она сказала Тане: «Сегодня поминают ближних
усопших». Испекла тетя Мотря из картофеля оладьи, сунула пяток в руки Татьяне,
сказала: «Иди на могилки мамы и брата, помяни»...
— Я все их там съела, — говорила мне теперь девочка, не замечая, что по лицу ее
текут слезы. — Отдохну вот у дедушки Степы. Может, он карасиков с реки принесет.
Она помолчала. Потом сказала со взрослой озабоченностью:
— И тебя вот надо бы угостить. Только нечем... Может, тоже карасиков
подождешь?
Я не стал ожидать карасиков и попрощался с ней. Уже далеко позади осталось
пепелище, но долго еще не выходила Таня у меня из головы. Она была одной из многих
тысяч сирот на этой многострадальной земле. Но я пока ничем не мог помочь ей, и это
чувство мучило меня больше всего. [162]
2
И вот она, Припять. Разлилась во всю свою ширь. Вскипает, швыряя на берег пену
и брызги. Сижу за чьей-то хатой, укрывшись от ветра. Вокруг безлюдно, хотя деревня
Черничи довольно велика. Я ожидаю какой-нибудь лодки с того берега, но река
пустынна.
Мне вспомнилось, как недавно, словно Робинзон Крузо, я оказался на
необитаемом острове. Это случилось близ села Домантово. Именно здесь, где в
весеннее половодье Днепр стелется на добрые десять километров, мне пришлось
переправляться на другой берег. Мне повезло: несколько местных жителей
отправлялись за картофелем в какое-то белорусское село.
Плывем. На большом баркасе шестеро мужчин и две женщины. Беседуют о том, о
сем. И прежде всего о голодном житье-бытье. Здесь, знаю, осенью шли тяжкие бои. И
небо, и земля горели. У жителей до весны не хватило даже картошки.
Гребцы знают мое намерение и, когда показались лесные заросли на
противоположном берегу, оживились. «Куда же будем приставать? К Новоглыбову?» —
спрашивает один из гребцов. «Что ты! — отвечает другой. — Там, слыхать, карателей
полным-полно! Рыщут как волки впроголодь. Говорят, где-то поблизости нашли мешок
с махоркой. Мол, десантникам выбросили...» — «Тогда, может, потянем до Сорокашич?
Там местность глуше, — предлагает первый. И, кивая на прибрежный лес,
сокрушается: — Вот только пристать к берегу как? Волна-то, братцы!..»
Мне хочется побыстрее попасть на берег. И так обременил людей, задержал их,
может, на целый час.
У берега волна и впрямь сильнее и круче, но мои попутчики свое дело знают. Я
выхожу на берег, не замочив штанов. «Ну что ж, добрых дорог тебе, хлопец!»
Лодка стремительно удаляется. Остаюсь один. Я на днепровском левобережье, где
так драматически оборвался прошлой осенью мой фронтовой путь, на который сейчас
стремлюсь вновь выбраться. Что ждет меня впереди? Опасности наверняка. Всюду
свирепствуют оккупанты и всякая продажная тварь — старосты, бургомистры,
полицаи...
Размышляя так, иду вперед. И вдруг передо мной — еще одна река, правда,
неширокая. Видно, протока. За [163] ней, метрах в трехстах — желанный сосновый бор.
Вот тебе раз — выходит, я оказался на острове. Знали ли мои попутчики о протоке?
Вряд ли. Ведь Домантово в десятке километров отсюда.
На острове было много щавеля, и я непрестанно жевал эту сочную кисловатую
траву, чтобы хоть как-то утолить голод. Через час вновь оказался там, где сошел на
берег. Остров, к счастью, оказался небольшим.
Долго вглядывался в речную даль, ожидая какой-нибудь спасительной лодчонки.
К вечеру я уже подумывал притулиться где-нибудь на ночлег в тихом местечке, чтобы
меньше досаждал пронзительный ветер. И в тот момент в волнах темной точкой
мелькнула лодка! Я вскочил, закричал, стал размахивать руками.
И вот маленькая двухместная лодка приближается к берегу. Кто в ней?
Лодкой управляла женщина. Ловко орудуя веслами, она подогнала ее к самому
берегу. Взглянув на меня, удивилась: «Кто ты, как здесь очутился?» Я коротко объяснил.
«Садись!» — бросила, будто приказала. По пути спасительница рассказала о своем
житье.
У Дарьи на берегу двое детишек. Втроем живут в землянке, которую пришлось
рыть ей самой. Деревню сожгли немцы. Все продукты, что удалось спасти, еще зимой
съели. Хнычут дети, украдкой от них она плачет сама. Дарья промышляет на реке с
маленьким бреденьком. Долгими часами скитается по речной пустыне. И часто
возвращается ни с чем. В поисках добычи и оказалась она вблизи от острова. На мое
счастье!
Окончательно доверившись Дарье, делюсь с ней самыми сокровенными мыслями.
Она, испугавшись, машет руками: «Не моги! — И сквозь слезы говорит: — Там, на том
берегу, враз на веревке окажешься! Они за вашим братом охотятся. Им за вас награды
обещаны».
Потом до самого берега Дарья молчала. Так же молча причалила лодку, спрятала в
прибрежные кусты весла. Взяв пустой мешок, сказала: «Идем. В землянке
переночуешь. А я возьму что-нибудь теплое и лягу под лодкой».
Я не хотел стеснять детей и сам лег под лодку. Там было тихо и тепло. Ведь я
лежал на шубе, принесенной заботливой Дарьей. [164]
3
— Эй, очнись!
Увлекшись воспоминаниями о происшествии на Днепре, я в своем укрытии
пригрелся под солнцем и задремал.
Двое мужчин, одетых в полувоенную форму, стояли передо мной. Я сразу понял,
что это не иначе, как полицаи. Вот ведь как нелепо попался к ним в руки.
Я почти угадал: один из них был старостой, другой — полицаем.
Они привели меня в дом старосты. Себе и полицаю староста налил в стаканчики
самогонки. Выпив, они закусывали, смачно чавкая. Я глотал голодные слюнки.
Попутно велся допрос. Кто, откуда, куда следую? Я отвечал.
— Значит, идешь домой. А документ маешь?
Я пожал плечами: откуда?
Оба наперебой стали убеждать меня, какой у них в районном городке Турове
добрый шеф жандармерии. До меня тут, в Черничах, немало, мол, побывало таких же,
как я. Их посылали в город, и там они получали пропуска домой. Это все, надо сказать,
выглядело довольно заманчиво. В самом деле, почему бы не воспользоваться
официальным документом для своих целей, облегчить свою задачу?
Я направился по большаку в Туров. Но на полдороге остановился: «Куда и зачем
идешь? В лапы врагу, добровольно? Или мало тебе фашисты зла причинили? Слюнтяй!
Кому ты поверил? Прохвостам! Забыл, что тебе Дарья говорила? Вернись, пока не
поздно!»
Я то замедлял шаг и поворачивал обратно, то вновь неуверенно брел к Турову.
«Без документов ты — вне закона. Каждый может прикончить. Сгинешь бесследно. Иди
в Туров!»
До города шесть километров. А шел до него чуть ли не полдня.
И вот наконец Туров. Утверждают, что он старше Киева. Но в отличие от него так