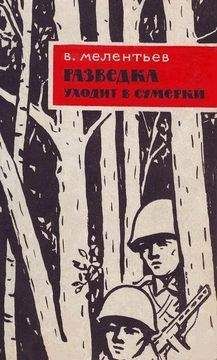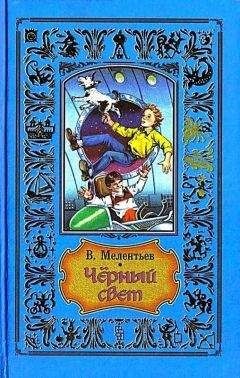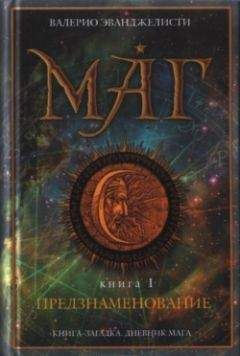Ознакомительная версия.
— Ну вот, начинается, — буркнул Андрианов. — Черт знает что, сержант, — и недовольно скомандовал: — По лодкам.
Сзади, возле самых немецких траншей, слышался встревоженный говор, в небо взвилось уже несколько ракет. Лодки стали выходить на стрежень, и мертвенный свет ракет вырисовывал их на аспидной черни воды со всеми деталями и подробностями. «Не прорвемся!..»
Сказать так не сказал никто, но подумал каждый: слишком уж заметны были лодки и люди в них.
Но вот трескуче и слаженно ударили автоматы, грохнули разрывы гранат, и было видно, что им никто не отвечает. Пулеметы били еще наугад, прочесывая местность. А автоматы неистовствовали. Внезапно, покрывая нарастающий шум боя, горько и обиженно прокричала лошадь. Этот крик — вопящий, ни на что другое не похожий — больно стегнул по нервам. От бухточки на всем скаку вынеслась двуколка, покрасовалась мгновение над обрывом и, облитая все тем же мертвенным светом ракет, грохнулась вниз. Ни всплеска, ни шума никто не услышал — бой разгорался.
Он шел почти до полуночи, потом постепенно стих. Всю ночь разведчики не уходили с берега, ожидая Потемкина и Хворостовина. Черная вода была глянцевито покойна, и солдаты, жадно затягиваясь цигарками из рукавов, настороженно молчали.
В рассветные сумерки лейтенант Андрианов приказал остаться только наблюдателям, а остальным уйти в тыл на отдых. Никто не хотел уходить, и все, не сговариваясь, кружили вокруг похудевшего за ночь и словно обуглившегося Дробота. Он молчал, исподлобья поглядывая на товарищей, и даже не курил, а только часто пил и все облизывал беспрерывно пересыхающие губы. Ему никто ничего не говорил, но во взглядах, вздохах людей пробивалась укоризна, словно сержант был виноват во всем. Эта недосказанность привела к несчастливой минуте, когда Дробот поднял подернутые поволокой глаза на Андрианова, — и лейтенант понял, что он просит разрешения сплавать на тот берег и проверить, что произошло с разведчиками. Лейтенант непримиримо поджал губы: все должно остаться так, как произошло. За последствия ответят вдвоем: так или иначе, а они оба приняли решение и должны отвечать за него.
Всем стало понятно, что возвращения с того берега быть не может. Наблюдатели сообщили, что последние немцы спрятались в траншеях. Советские пулеметчики и минометчики, обстреляв их, сами готовились уйти на покой — днем противник был тих и покладист: у него уже не хватало боеприпасов. В этот момент на том берегу, в подобрывной темноте, как звездочка, блеснул слабый огонек. Туман быстро поднимался, светлело, но кто-то остроглазый увидел, что в нише, под высоким западным берегом, у самой воды вспыхивает и гаснет цигарка. Потом разглядели две скорчившиеся, тесно прижавшиеся друг к другу фигурки. Одна из них приветливо помахала рукой.
Весь день они пролежали под обрывом, и вся передовая смотрела на них в бинокли и стереотрубы, а беспечный Валерка сигналил морским телеграфом о своем отличном самочувствии и просил вечерком устроить маленький сабантуйчик.
Для них устроили не маленький, а преогромный сабантуй — боеприпасов не жалели — и вдруг убедились, что противник почти не отвечает. Это было не менее важным открытием, чем благополучное возвращение двух разведчиков, разогнавших чуть не роту немцев. Теперь каждому стало понятным, что на том берегу что-то не так, что-то сломалось в грозной машине, но что именно, еще никто не знал.
* * *
Отделавшиеся легкими царапинами Хворостовин и Потемкин были окружены почтительной толпой. Они помалкивали о своих делах, и люди не понимали этого. Слава требовала объяснения, риск — оправдания. По взводу пошло перешептывание:
— Сержант послал людей на верную смерть, а они выкрутились. Вот это настоящие солдаты.
И та неприязнь к сержанту, что родилась на берегу, в часы ожидания, окрепла.
Вечером, вскоре после возвращения, когда взвод собрался в землянке, Дробот оказался как бы в стороне от всех. Люди обходили его и льнули к Хворостовину. А Валерка был обычным Валеркой — веселым, находчивым и сдержанно-добродушным.
Когда приехал начальник штаба полка — в сверкающих золотых погонах, с надраенными и тоже сверкающими пуговицами и пряжками, — начался разбор действий. Слушали без особого внимания, и не только потому, что все знали, что командир полка объявил взводу благодарность, а в четвертой части уже пишут наградные листы. Главное теперь было не в этом официальном разборе и даже не во взятом «языке», который, оказалось, был очень ценным: у него нашли карту укреплений целого участка. Главным для собравшихся было отношение начальников к удачливому сержанту. Это знали все, в том числе и Дробот, но этого не знали офицеры, хотя капитан Мокряков не столько умом, сколько добрым и чутким сердцем понял, что, несмотря на удачу, во взводе не все в порядке. Открытие насторожило его, и он со все нарастающей тревогой всматривался в лица разведчиков.
Начальник штаба провел разбор, отметил людей и в конце подчеркнул:
— Очень смелой, тактически грамотной была необычная инициатива командира группы захвата сержанта Дробота, когда он оставил прикрытие. В самом деле, пропажа офицера, который руководил работой на этом участке, должна была обнаружиться очень скоро и, значит, вызвала бы тревогу. Как вам известно, так именно и случилось. Вот почему командование полка особо отмечает инициативу сержанта и решение командира взвода.
Начальник штаба говорил еще о чем-то, но слова его — правильные, нужные и в другое время увлекательные — растекались и пропадали, а он не замечал этого. Лишь настороженное сердце капитана Мокрякова чутко улавливало необычное настроение разведчиков, и ему стало не по себе. Старый командир, он знал, что ничто так не разлагает подразделение, как отсутствие боевой дружбы, боевого доверия.
Вот почему, когда все такой же серый, каменно-спокойный Дробот потянул было руку, чтобы попросить у начальника штаба слова, Мокряков предупреждающе кашлянул и метнул в сержанта настороженный взгляд.
Он понимал, что дело в сержанте. Все то тайное, подспудное, чем живет сейчас взвод и чем он недобро спаян, — касается только Дробота. А Мокряков не мог позволить, чтобы те самые люди, которых он любил, допустили несправедливость по отношению к одному из своих товарищей.
В эту минуту Мокряков даже не думал о том, что своими действиями он оберегает авторитет командира отделения, геройского разведчика. По праву любящего перед ним все были равны. И видно, Дробот понял его. Он устало опустил руку, потупился и замер.
Начальник штаба кончил разбор, посмотрел на часы и, узнав, что вопросов ни у кого нет, поднялся.
Все вскочили, и Мокряков, брюшком расталкивая сгрудившихся в земляночной тесноте разведчиков, с несвойственной ему живостью и даже увертливостью протиснулся к начальнику штаба и почтительно продвинул его к дверям, словно оберегая от возможных докучливых вопросов, которые можно решить и в его отсутствие.
На самом пороге капитан быстро оглянулся и, встретившись взглядом с Андриановым, решительно кивнул ему головой.
Лейтенант понял его — нужно задержать людей для настоящего разговора: он тоже чувствовал, что во взводе творится что-то неладное. Почти все время разбора им владело недоумение от незаслуженной похвалы, и, пока он прикидывал, стоит ли принимать ее близко к сердцу или промолчать — мало ли каких ошибок не бывает в жизни, а тем более на войне, — движение людских душ, которое уловил Мокряков, прошло мимо него. Но сейчас знак капитана усилил народившуюся тревогу.
Когда начальник штаба уехал, Мокряков вошел в землянку, с порога приказал садиться и протолкался к своему любимому месту.
— Сиренко! — рявкнул он, — квасу!
И потому, что Сашке было решительно невозможно оставить Дробота в трудную для него минуту, он помедлил и умоляюще взглянул на капитана, но тот сердито повторил:
— Быстро!
Возмущаясь и огорчаясь, Сиренко помчался на кухню, а Мокряков обвел не добрым, как ему казалось, а на самом деле обиженным, тревожным взглядом разведчиков и спросил:
— Ну, давайте, понимаешь, начистоту. Без этих самых… штучек-дрючек. По-солдатски. Что у вас стряслось?
Хворостовин наклонился вперед и уставился на Дробота. Сержант перехватил его взгляд и едва заметно поморщился. Тогда Хворостовин вскочил:
— Разрешите, товарищ капитан? Кое-кто неправильно представляет, что случилось на том берегу. Может быть, потому, что завидует сержанту Дроботу. По-моему, только это, товарищ капитан.
Вошел Сашка с котелком кваса. В землянке установилась недобрая, напряженная тишина. Даже те, кто были всецело на стороне Хворостовина, кто превозносили его, — растерялись и теперь не знали, что думать о нем и событиях. Но все молчали, и только капитан шумно тянул квас. Наконец он оторвался от котелка.
Ознакомительная версия.