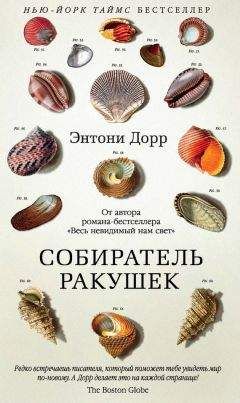Мадам Манек говорит:
— Разве вы не хотите пожить перед смертью?
— Мари уже почти четырнадцать, мадам. По военному времени — не так уж мало. Четырнадцатилетние умирают так же, как все остальные. А я хочу, чтобы четырнадцатилетние были молоды. Хочу…
Мари-Лора отступает на шаг. Видели ли они ее? Она вспоминает каменную конуру, куда водил их безумный Юбер Базен. Грот, куда во множестве сползаются улитки. Вспоминает, как папа сажал ее на велосипед, вставал на педали и они выезжали на какой-нибудь парижский бульвар, в рев мчащихся машин. Мари-Лора держала отца за пояс и поджимала колени, и они летели между автомобилями, под уклон, средь громких запахов, звуков и цветов.
— Я собираюсь почитать, мадам, — говорит Этьен. — А вам разве не пора готовить ужин?
В январе сорок второго года Вернер заходит к Гауптману в его ярко освещенный кабинет, натопленный в два раза жарче всей остальной школы, и просит разрешения уехать домой. Маленький учитель сидит за большим столом, перед ним на тарелке худосочного вида жареная птица. Перепелка, куропатка или голубь. Справа рулоны чертежей. Гончие вытянулись на коврике у камина.
Вернер стоит, держа фуражку в руках. Гауптман закрывает глаза и проводит пальцем по брови.
— Деньги на билет я заработаю, герр доктор.
На лбу Гауптмана пульсирует синий фейерверк жилок.
— Вы? — произносит он, открывая глаза; собаки разом вскидывают морды — трехголовая гидра. — После того, как получили все? После того, как приходили сюда, слушали концерты, ели шоколад и грелись у огня?
На щеке Гауптмана трясется кусочек жареного птичьего мяса. Может быть, впервые Вернер замечает в светлых редеющих волосах учителя, в черных ноздрях, в маленьких, почти заостренных ушках нечто безжалостное и нечеловеческое, нацеленное только на выживание.
— Может, вы возомнили себя важной особой?
Вернер за спиной мнет фуражку, чтобы унять дрожь:
— Нет, герр доктор.
Гауптман складывает салфетку.
— Вы сирота, Пфенниг, у вас нет покровителей. Я могу сделать из вас что захочу. Смутьяна, преступника, взрослого. Могу отправить вас на фронт и проследить, чтобы вы мерзли в окопах, пока русские не отрежут вам руки и не затолкают их в вашу глотку.
— Да, герр доктор.
— Вас отпустят из школы, когда школа будет к этому готова. Не раньше. Мы служим рейху, Пфенниг, а не он — нам.
— Да, герр доктор.
— Сегодня вечером вы придете в лабораторию. Как всегда.
— Да, герр доктор.
— Больше никакого шоколада. Никаких привилегий.
В коридоре, закрыв за собой дверь, Вернер прижимается лбом к стене и видит последние отцовские минуты. Кровля оседает, под щекой — каменный пол, череп трескается. Я не могу вернуться домой, думает он. И не могу остаться.
Исчезновение Юбера Базена
Мари-Лора идет вслед за ароматом супа через Пляс-оз-Эрб и держит горячий судок перед нишей позади библиотеки, пока мадам Манек стучит в дверь.
— Где мсье Базен? — спрашивает мадам.
— Наверное, куда-нибудь перебрался, — отвечает библиотекарь, не слишком успешно пытаясь скрыть неуверенность.
— Куда мог перебраться Юбер Базен?
— Не знаю, мадам Манек. Извините, мне холодно тут стоять.
Дверь хлопает. Мадам Манек чертыхается. Мари-Лора вспоминает истории Юбера Базена: скорбных чудищ, слепленных из морской пены, русалок с рыбьими хвостами, романтику английских осад.
— Он вернется, — говорит мадам Манек не столько Мари-Лоре, сколько себе.
Однако на следующий день его по-прежнему нет. И на следующий тоже.
На очередную встречу клуба приходит лишь половина участниц.
— Они думают, что он нам помогал? — шепчет мадам Эбрар.
— А он нам помогал?
— Вроде бы он доставлял сообщения.
— Какие сообщения?
— Это становится слишком опасно.
Мадам Манек расхаживает по кухне. Мари-Лора почти физически ощущает жар ее отчаяния.
— Тогда уходите! — шипит она. — Уходите все!
— Ну зачем так? — говорит мадам Рюэль. — Мы просто сделаем перерыв на неделю или две. Подождем, пока все не успокоится.
Юбер Базен с его маской, с его мальчишеской живостью и запахом давленых насекомых изо рта. Куда, гадает Мари-Лора, немцы забирают арестованных? В «пансион», где держат папу? Почему оттуда пишут письма про замечательную еду и мифические деревья? Жена пекаря говорит, арестованных отправляют в лагеря, в горы. Нет, уверяет жена зеленщика, их везут на нейлоновые фабрики в Россию. Мари-Лоре представляется, что эти люди просто исчезают. Солдаты набрасывают мешок на голову тому, кого хотят убрать, пропускают через него электричество, и человека нет. Он перенесся в какой-то другой мир.
Город, думает Мари-Лора, медленно превращается в макет на шестом этаже. Улицы пустеют одна за другой. Всякий раз, выходя на улицу, она ощущает все окна над головой. Тишина беспокойная, неестественная. Наверное, так чувствует себя мышь, когда выглядывает из норки на луг и не знает, что за тени кружат высоко в небе.
В столовой повесили шелковые полотнища с лозунгами. Они гласят:
Упасть — не позор. Позор — не встать.
Будьте стройны и поджары, быстры, как гончие, жестки, как дубленая кожа, тверды, как крупповская сталь.
Каждые несколько недель очередной преподаватель исчезает, засосанный машиной войны. Появляются новые — пожилые, пьющие. Все они какие-то увечные: кто-то хромает, кто-то слеп на один глаз, у кого-то лицо перекошено после апоплексического удара или после прошлой войны. Кадеты относятся к ним без уважения, преподаватели, в свой черед, быстро выходят из себя. Вернеру кажется, что вся школа — граната с выдернутой чекой.
Что-то странное происходит с электричеством. Оно выключается на пятнадцать минут, затем напряжение прыгает. Стрелки часов бегут быстрее, лампочки вспыхивают и лопаются, засыпая коридоры мягким дождем осколков. Наступают дни полной темноты: выключатели не работают, тока нет. В спальнях и душевых — холодрыга. Воспитатель приносит свечи. Весь бензин отправляют на фронт, все меньше машин въезжает в школьные ворота. Еду привозят в тележке, запряженной стареньким мулом; у него сквозь шкуру видны все ребра.
Уже не первый раз Вернер, разрезая сосиску на тарелке, видит там розовых извивающихся червяков. Форма у новых кадетов из жесткой дешевой ткани, хуже, чем у него. По мишеням больше не стреляют — нет патронов. Вернер почти ждет, что Бастиан начнет выдавать им палки и камни.
И тем не менее все новости — хорошие. «Мы на подступах к Кавказу, — сообщает радио Гауптмана, — мы захватили нефтяные месторождения, мы скоро возьмем Шпицберген. Мы продвигаемся стремительно. Пять тысяч семьсот русских убиты, потери с немецкой стороны — сорок пять человек».
Каждые шесть-семь дней те же двое бледных унтер-офицеров входят в столовую, и четыреста лиц сереют от усилий не повернуться в их сторону. Двигаются только глаза, только мысли, кадеты в уме отслеживают путь офицеров между столами, к очередному осиротевшему мальчику.
Кадет, за чьей спиной они останавливаются, изо всех сил делает вид, будто ничего не заметил. Он подносит вилку ко рту и жует. Тогда тот унтер-офицер, что повыше, кладет ему руку на плечо. Мальчик оборачивается с набитым ртом и вместе с унтер-офицерами выходит из столовой. Большие дубовые двери со скрипом закрываются, а все оставшиеся шумно выдыхают и возвращаются к жизни.
У Рейнхарта Вёльманна погиб отец. У Карла Вестергольцера погиб отец. У Мартина Буркхарда погиб отец, и Мартин — в тот же день, когда унтер-офицер тронул его за плечо, — говорит всем, что счастлив. «Разве не все когда-нибудь умрут? — восклицает он. — И разве не каждый мечтает погибнуть в бою? Вымостить собой дорогу к победе?» Вернер тщетно ищет сомнение в его глазах.
Самого Вернера сомнения мучат беспрестанно. Расовая чистота, политическая чистота — Бастиан постоянно обличает всякое разложение, но разве (думает Вернер в ночи) жизнь по своей сути — не разложение? Ребенок рождается, и мир начинает его менять. Что-то у него отнимает, что-то в него вкладывает. Каждый кусок пищи, каждая частица света, входящая в глаз, — тело не может быть вполне чистым. Но именно поэтому, настаивает комендант, рейх измеряет им носы, оценивает цвет волос по таблицам.
В замкнутой системе энтропия не уменьшается.
По ночам Вернер смотрит на койку Фредерика: на тонкие доски и грязный матрас. Теперь там спит уже другой новенький. Дитер Фердинанд, маленький мускулистый паренек из Франкфурта, выполняющий все, что требуют, с пугающим остервенением.
Кто-то кашляет, кто-то стонет во сне. Далеко за озерами одиноко гудит поезд. Поезда идут на восток, всегда на восток, за холмы, на широкий истоптанный простор фронта. Они идут даже тогда, когда Вернер спит. Стуча, проезжают катапульты истории.