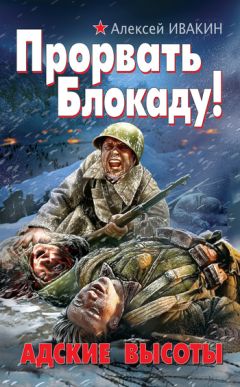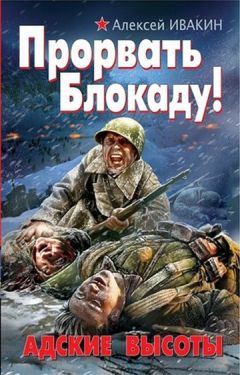Группа Риты подняла двоих, бродя по берегу.
Количество мешков под киотом все увеличивается.
Киот – это уголок с иконами. Где горит лампадка. Это ветки, сложенные помостом. Над ним натянут полиэтилен. На нем стоят несколько образов.
Оттуда печально смотрит Богородица. Мама…
Под иконой черные пластиковые мешки. В мешках – люди.
Вот уже аккуратной кучкой – тридцать девять человек.
И Ей все равно – атеисты ли под Ней, или мусульмане. Все мы Ее дети. Даже те, кто от Нее отказался. Даже те, кто знать Ее не хочет. Она-то нас знает.
Эх, Синявино, Синявино…
Выпить, что ли?
Вовремя кружка подошла. Отхлебываю водку.
Пока заедаю ее салом, луком и хлебом – к столу подходит Юди и кладет ложку на стол.
– Смотрите…
И мы смотрим. Эту ложку он поднял вместе с бойцом. А на ложке выцарапано мелкими-мелкими буквами…
Еда в сторону. Водка тоже. Тут же заводим генератор – включаем свет. Включаем еще и все фонари.
Как хирурги в операционной, склоняемся над солдатской ложкой.
– Л-т… Лейтенант, наверное. Уткин. Николай Алексеевич… – читает, разбирая буковки на алюминии, Тимофеевич. – Один… Девять… Один… Шесть… Тысяча девятьсот шестнадцать. Год рождения, скорее всего. Кострома. Костромской РВК. Ро… Ро… Рославль, что ли? Ленина… Восемьдесят восемь.
Вот мужик – молодец.
Выцарапал на ложке все свои данные. Тут же звоню в Питер. Сереге Москвичеву – другу моему из города на Неве. У него безлимитный Интернет. Нам слишком дорого через нетбук выходить на базу данных…
– Привет, Кислый!
– И тебе не хворать, Зеленый!
Это у нас свои приколы. Объяснять их сложно, долго, нудно и не нужно. Чтобы было проще, на этой линии связи – свои позывные.
– Сереж, нагугли сайт ОБД «Мемориал». Пробей там Уткина Николая Алексеевича.
– Сделаем… Позвоню, как пробью.
Всем не терпится узнать – есть ли какая-нибудь информация по костромичу лейтенанту Уткину.
Пятнадцать минут тянутся резиной.
Звонок.
– Зеленый, записывай!
– Угу!
– Уткин Николай Алексеевич. Шестнадцатого года рождения. Командир взвода двести девяносто шестого полка тринадцатой стрелковой дивизии. Записываешь?
– Пишу, пишу… Еще что есть?
– Это анкета на семью, получающую пособие по приказу заместителя НКО номер сто сорок дробь сорок два. Второй приказ от двадцать восьмого февраля сорок восьмого. Об исключении из списков. Здесь Уткин ваш – командир взвода отдельного огнеметного батальона Седьмой Гвардейской армии. В РККА с тридцать седьмого по сороковой. Потом с сорок первого. Пропал без вести в ноябре сорок третьего. Опять же – шестнадцатого года рождения… Записываешь?
– Угу…
– Костромич. Мать – Уткина Анна Петровна. Рославль. Ленина – восемь-восемь. Понятно? Больше данных нет.
– Записал!
– Как вы там?
– Живы! Спасибо, Кислый!
– Удачи, Зеленый!
Вот и разбирайся сейчас… Где же ты и как воевал, Николай Алексеевич?
Ладно… Разберемся дома. Отправим запросы в военкоматы и архивы. Проверим по Интернетам.
Знаем главное – в одном из мешков для мусора лежат кости Коли Уткина из Рославля.
Я не успеваю сесть на лавку, как телефон снова звонит.
Смотрю – снова Серега.
– Не спишь еще? Тут что-то странное…
– В смысле? – отвечаю я.
– Седьмая гвардейская была сформирована первого мая сорок третьего.
– И чо? Как раз по датам совпадают, – пожимаю я плечами.
– Ничо! Она начала воевать на Курской дуге. В ноябре сорок третьего была на Правобережной Украине. Понял?
– О как! – удивляюсь я.
– Сейчас еще веселее будет. Тринадцатая дивизия не входила в состав Седьмой Гвардейской. В Седьмую входили – 15-я, 36-я, 72-я, 73-я, 78-я и 81-я гвардейские стрелковые дивизии, которые затем были объединены в 24-й и 25-й гвардейские стрелковые корпуса.
– Так… А Тринадцатая?
– А Тринадцатая была под Питером.
– Отлично! Теперь проще…
– Фиг там проще… До декабря сорок третьего Тринадцатая стрелковая находилась в составе Пятьдесят Пятой армии Ленинградского фронта.
– И что? – продолжаю тупить я.
– Ничего. Тринадцатая стрелковая находилась внутри блокадного кольца.
А вот это сюрприз из сюрпризов…
Мы-то работаем с внешней стороны блокады.
– Тринадцатая стрелковая стояла под Пулково.
Еще сюрпризнее… Это западная сторона кольца. Мы – с восточной. И как же лейтенант Уткин попал из своей Тринадцатой стрелковой на Волховский фронт?
Побежал прорывать блокаду в районе «Бутылочного горлышка» со своим огнеметным взводом? Прибежал и умер на позициях…
«Бутылочное горлышко» – это то самое узкое место блокады. Между Волховом и Невой. Между жизнью и смертью.
– Думайте там. Если что – еще позвоню.
Да… И что тут надумаешь? А может, этот солдат вовсе и не Уткин? Может быть, махнулся не глядя, как на фронте говорят?
И тут внезапно на меня накатывает какая-то волна. Мне вдруг кажется – что никакой войны не было. Что все это сон. И никакого поиска нет. И что я занимаюсь нормальным человеческим делом. И пусть мертвые хоронят своих мертвецов.
Что-то меняется в моих глазах. Так, что от взгляда отворачиваются другие – живые.
И вдруг приходит понимание – я тоже мертвый. Именно поэтому я и хороню своих мертвецов.
И неважно. Совершенно неважно, что грудь разрывает болью, а волосы седеют.
И тут же все проходит. И только сердце начинает бешено стучать. Иду вытаскивать простиранные потоком воды камуфляжки. Потом вывешиваю их на сушилке – веревках, натянутых между двух берез.
В это время договариваются – кто поедет на раскладку.
Змей, Мать, Заяц, Мурзик и я.
Вспомнил!
Зайца зовут – Пашка!
А потом иду в землянку и пытаюсь уснуть.
А в голове вертится…
Как?
Ну как он смог погибнуть здесь?
И так вертится до утра… Даже во сне… Как часто я вижу эти сны…
Зато выспался. Утром все ушли работать, а я дремал в свое удовольствие.
«Урал» придет не раньше десяти утра. Так что раньше восьми утра можно не вставать.
Разговаривать с утра лень.
Бродим по лагерю, как зимние мухи по старому навозу.
На войне – как на войне. Есть время расслабиться? Расслабляйся. Если есть возможность бежать – беги. Если стоять – стой. Если сидеть – сиди. Если лежать – лежи. Жить? Живи.
Вот я и живу на вытащенном из палатки спальнике. Лежа живу. Кофеек попиваю. Книжку читаю. Покуриваю. Тишина… Красота!
Солнышко светит сквозь веточки полуобнаженных деревьев…
Ну что еще человеку надо?
Какую книжку читаю? А так… Богомолова. «Момент Истины». Совершенно по-другому она воспринимается здесь. Не там, дома, а здесь. Когда ты под голову себе подложил пробитую каску, а босые ноги опустил в холодную воду заплывшей от времени воронки.
Красота…
Вот Ритка бродит вокруг стола, чего-то высчитывает. Вот Змей чего-то на столе вырезает ножиком. Вот Мурзик совершенно невозмутимо смотрит куда-то в лес и курит, курит. И Заяц бегает туда-сюда. Зачем он туда-сюда бегает? А он Заяц – обязанность у него такая. Бегать.
Расслабление… Нирвана… Солнце… Сегодня будет жаркий день… Жаркий… Да…
Вдруг Мурзик из-за пазухи достает пилотку. Надевает ее. Из кармана достает наган. А потом встает и идет в лес. И только желваки на его лице играют. И какой-то он весь переломанный… Еле идет… И холод штыка на теле…
Просыпаюсь я от окрика:
– Подъем, Дед!
– А? – подскакиваю я.
– Машина пришла.
Зашнуровываю берцы. Спальник и книгу тащу в землянку. Хотя небо и без облачка – это Питер. Дождь может налететь внезапно. С Ладоги или с Балтики – какая нам тут, в лесу, разница? А потом идем на дорогу.
Ветерок такой легкий, что даже не гаснет спичка, от которой прикуриваю. Благодать…
Идем. И тащим на себе мешки с костями. Нет. Мешки с бойцами. Сегодня мы их уложим в гробы.
Забираемся в кузов грузовика. Грузим мешки сюда же. И долго – очень долго! – ждем Тамбов. Лена со своими ребятками, как обычно, опаздывает. Тамбовский командир – чемпион по опозданиям.
Прибегают как раз в тот момент, когда у прапора из пайбата заканчивается терпение.
Он только завел машину – эти прибежали.
Ну и поехали.
На дне кузова лежат убитые в сорок первом-втором-третьем.
Мы, живые из одиннадцатого года, сидим на лавках.
Пока живые.
А они, пока, мертвые. Никто более, чем они, не заслужил жить. Но живем мы. А они мертвые.
Ничего.
Это ненадолго.
Едем себе, едем. По заднему борту хлопает тент. Машина прыгает на кочках. Оттого что нечего делать – высовываюсь за тент и начинаю считать столбы линии электропередач.
Одиннадцать… Двадцать семь… Тридцать… Сорок два…
Сорок два столба.
И поворот у «Журавлей». Где-то здесь мы в сорок втором остановились.
Машина вышла на трассу. Стало чуть меньше трясти. «Урал» прибавил скорости.
Скучно… Нет никаких приключений. Ну не считать же приключением то, что мы на ходу привязываем тент к крыше кузова? А то не видно «фольксов» и «тойот», обгоняющих армейский «Урал».