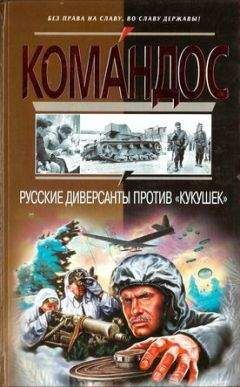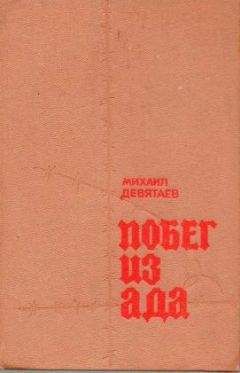…Сейчас заскрипят ворота. Вооруженные карабинами и автоматами немцы волчьим выводком втянутся ночью в лагерь, где так покорно и безропотно ожидаем их мы. Примкнутыми тесаками и прикладами они сгонят нас в низинку за баней и с привычным хладнокровием приступят к уничтожению. Истекающих кровью и подающих еще признаки жизни они прикончат тесаками. Глубокая яма, неведомо для чего выкопанная на днях нашими же руками, не что иное, как наша братская могила. Она достаточно велика, чтобы вместить всех. Ночь скроет злодейские следы. Прежде чем взойдет солнце, все будет покончено, и ни одна душа, кроме самих палачей, не будет знать о случившемся. Лагерь в глухом финском лесу бесследно исчезнет столь же внезапно, как некогда и появился…
От рисуемого обострившимся воображением кошмара меня отвлекает появление полицаев. Суетясь и сквернословя, они обегают ряды, как сторожевые овчарки овечье стадо, по несколько раз пересчитывая людей, добрая половина которых продолжает отсутствовать. Не так-то просто обнаружить их сейчас ночью и согнать в строй.
Скрипят ворота. Слышатся шаги и, словно светляки, порхают в темноте огоньки карманных фонариков. Затаив дыхание, мы ожидаем приближения немцев. Появляется комендант с переводчиком и несколькими унтерами. Их немногочисленная группа и отсутствие конвоя несколько успокаивают нас. Переводчик, переговорив с Тряпочником, объявляет:
— Ровно через час со всем барахлом все должны снова быть на этом же месте и ожидать дальнейших распоряжений. Для работы вне лагеря старшему полицаю сейчас же отобрать и выделить пятьдесят самых здоровых и сильных людей. По готовности — доложить!
Полиция тут же приступает к отбору. Охотников в набираемую команду на этот раз находится мало. Предчувствие дурного не покидает нас. Мы во всем теперь усматриваем некую ловушку.
— Под видом работ отведут подальше в лес, перестреляют и за другими вернутся, — мерещится каждому. — Оно даже и удобней так-то, молчком, да без шума и огласки. Зараз со здоровыми управятся, а со слабыми легче легкого. Это же яснее ясного!
— А я говорю — пойдешь! — ревет один из полицаев, наткнувшись на неожиданное неповиновение. — За саботаж у немцев, сам знаешь, что бывает. Так что — не дури и становись немедля в строй, покуль не поздно! По-хорошему тебе говорю.
— Не пойду! Что хочешь со мной делай, не пойду! Кому охота жизни-то лишаться!
— Ничего не пойму! — недоумевает полицай. — Боятся все чего, что ли?
— Будешь бояться! — раздаются многочисленные голоса. — Смерть-то, известно, каждому страшна, хоть и полуживому. А жизнь-то — она одна у каждого, другой-то уж не будет.
Оглушительный хохот полицая действует на всех самым отрезвляющим образом.
— Поискать таких дураков надо! — истошно ржет он, захлебываясь от хохота, и, только придя в себя, поясняет: — Та сдурили вы чи що? Яка така смирть? Оце дурни так дурни! Их грузить продукты ведут, а они о смерти балакают. Утром выезжаем всем лагерем отседова, вот грузить вагоны и требуетесь. А на погрузке, глядишь, еще и нажретесь вволю. Разумеете вы это, я вас спрашиваю?!
Озадаченный строптивец нерешительно топчется на месте. Страх владеет им, но искушение утолить вечно сосущий голод берет в нем верх, и он робко выходит из строя и занимает место в набираемой команде. Следуя его примеру, один за другим присоединяются к нему остальные. Уяснив, что ничего угрожающего нет, вылезают из своих нор и занимают места в строю и все прятавшиеся до этого.
Как ни подготовлены мы были ко всему, сообщение о выезде застало нас явно врасплох, и нам трудно примириться с мыслью о перемене места. Не так-то легко и просто расстаться с обжитыми местами, с уже ставшей привычной обстановкой, какой бы горестной она ни была. Да и кто его знает, что еще уготовано нам в дальнейшем? Быть может, все пережитое и выстраданное здесь покажется нам после благодатью. Из опыта мы знаем, что на лучшее рассчитывать не приходится.
Сборы наши невелики. Все имущество наше ограничивается жалкими обрывками одеял, ложкой с котелком, а то и просто банкой, и латаной-перелатаной одежонкой, не считая той, что на нас самих. Не проходит часа, как мы снова выстраиваемся на плацу, на этот раз в полном составе. Пересчитав нас, полицаи успокаиваются.
— Можно сидеть! С мест не расходиться! — милостиво разрешают они.
Разбившись на группы, мы располагаемся на утоптанной земле и горячо обсуждаем надвинувшиеся перемены, пытаясь предугадать свое будущее. Каково-то оно будет? Оживление у немцев по-прежнему не стихает. Они суетливо вытаскивают из палаток имущество, поспешно приводят в порядок оружие и снаряжение, упаковывают и подгоняют ранцы. Наше внимание неожиданно привлекают огромные костры за проволокой.
— Не иначе как жгут все, чтобы противнику не досталось, — догадывается Полковник. — Знаем мы это — самим доводилось. Дело, как видно, нешуточное, коли вот даже все палить начали. Поперли все-таки, выходит, живодеров, раз бежать собираются.
Когда в лагере появляются возвратившиеся с погрузки, мы обступаем их, наперебой засыпая вопросами:
— Ну, как оно там? Где были? Делали что? Что нового узнали?
— Склады от всего опорожняли да к дороге подвозили, — жадно давясь нахватанным хлебом, лаконично отвечают они. — Хлебом да продуктами несколько вагонов набили, одежи и обуви вагон набрался, да вот еще инструмента тоже.
— Обувь и одежа — это еще туда-сюда. А вот на черта им еще инструмент понадобился? — недоумевает Полковник. — Никак думают еще, что ли, где дорогу строить?
Окончательно успокоившись, мы расходимся по своим местам.
— Ясно, что это эвакуация. В этом теперь нет ни малейшего сомнения, — размышляем мы. — Покидая насиженные места, немцы попросту перегоняют куда-то пленных, и ничего пока страшного при этом нам не угрожает. По чьему-то вражьему велению мы все-таки избежали на этот раз явно подготовленной для нас ямы.
С первыми лучами солнца в лагере появляется Тряпочник. Нас выстраивают и неоднократно пересчитывают. Немцы за проволокой также выстраиваются. В походной форме, навьюченные ранцами, с прикрепленными к ним касками, они всем своим видом смахивают на вьючных ослов.
— Ишаки дрессированные! — острит Павло. — Только и отличия, что породы другой — арийской.
Подается команда к выходу. Щелкая колодками и побрякивая котелками и банками, мы трогаемся с места. Сразу же по выходе из ворот нас окружают усиленным конвоем. Оцепленные охраной, мы плетемся по знакомой нам лесной дороге, в последний раз оглядываясь на покидаемый нами лагерь.
— Сколько же все-таки в нем выстрадано, чего только не пережито, как изуродована и искалечена жизнь! — горестно думаем мы и, удрученные воспоминаниями, тщетно пытаемся отогнать тягостные думы. — Стоит о чем сожалеть да печалиться! Радоваться надо, что избавились от этих гиблых мест, из дыры этой клятой повылезли, и о том думать, что нас впереди ожидает, а не на кладбище это оглядываться. Хуже-то его все равно не будет. Может, и посветит еще нам где солнце.
Но нет, не вытравить из памяти горького осадка, и тщетны усилия избавиться от горестных воспоминаний. Заросшие травой жалкие холмики по обочинам дороги, эти безмолвные свидетели пережитой здесь трагедии, напоминают нам о суровой и жестокой действительности, об оставляемых здесь навеки товарищах.
— Как же мало осталось нас, выживших, и как много здесь этих безымянных могил! И так по всей трассе, — эта мысль буквально преследует каждого из нас. — Даже представить страшно, что здесь было и что здесь сделали с нами немцы. Такого и по гроб не забудешь!
Дойдя до поворота, мы еще раз оглядываемся назад и неожиданно замечаем над лесом огромные клубы черного дыма.
— Не лагерь ли горит? Заронили что при уходе? — недоумеваем мы, невольно сбивая шаг.
Не придавая этому зрелищу особого значения и нимало не беспокоясь, конвоиры продолжают подгонять нас.
— Похоже, сами подожгли, — решает Полковник, — потому и не беспокоятся. Им он больше не нужен — вот и жгут. Интересно бы все-таки узнать, что же такое происходит, почему они бросили и подожгли лагерь и куда это нас еще погонят? Вот бы разнюхать обо всем этом!