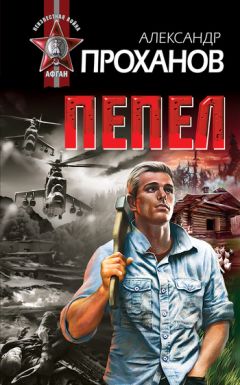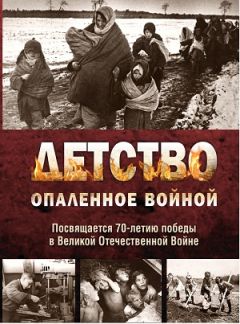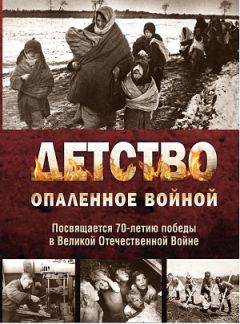– А я прошлым годом в Москву ездила. Иду и вдруг вижу, мой Володя идет. Со спины точь-в-точь, худой, высокий, пиджак на нем полосатый и кепка. Я догонять. «Володя! Володя!» Он обернулся: «Женщина, вы меня?» Совсем другое лицо. Говорю: «Извините, мужчина!»
Суздальцев слушал их голоса. Представлял, как сидят они за столом у оконца, за которым смотрят на них серебряный солдат и серебряная женщина, на божнице стоит образ «Взыскание погибших» с красной узорной надписью. И они не оставляют надежды, что их женихи и мужья еще вернутся с войны, отыщут родной порог, обнимут своих ненаглядных.
– А я думаю, вот бы мне умереть. Попаду в рай, а там Степка мой. Я бы к нему подошла, не то что теперь, вся в морщинах, а как тогда была, когда за него выходила. Щеки-то у меня были розовые, руки белые и глаза голубые. И он бы меня сразу узнал.
– А я, бабы, думаю. Вот бы он пришел с войны, увидел меня, какая я есть, и бросил. Другую себе сыскал. Женщин без мужиков много осталось. Выбирай любую. Вот я и думаю, может, хорошо, что погиб? Сейчас я честная вдова, а была бы обманутая жена.
– Грех тебе так говорить. Мне бы хоть какой, а вернулся. Без рук, без ног, слепой и глухой. Я бы любого его приняла. Я ведь ездила по приютам, по домам инвалидов, где лежат такие, что в танках горели или в самолетах падали. Ни живого места, ни рук, ни ног. Как кочерыжки. Думала, вдруг Женю найду, заберу домой, буду выхаживать. От моей бы любви у него глаза бы открылись.
– Ах, бабы, чтой-то мы запьянели. Пора песни петь.
Они умолкли. Суздальцев представлял, как стали серьезными, одухотворенными их лица, как они убирали со лба отпавшие пряди волос, одергивали смятые кофты и юбки, выкладывали на колени изнуренные работой руки. И вдруг вознесся неверный, пугливый, истекающий из глубины души голос:
Вот кто-то с горочки спустился…
Продержался в воздухе и умолк, иссяк, вернулся туда, откуда нежданно вырвался. В глубину измученного горюющего сердца. И второй голос, крепче, гуще, сочнее первого подхватил умирающий звук, вновь вывел его на свет:
Должно быть, милый мой идет…
И хор голосов, еще нестройных, разлетающихся, отстающих друг от друга, продолжил петь:
На нем походна гимнастерка,
Она с ума меня сведет…
Суздальцев слушал их голоса. Неяркие, лишенные былой красоты и свежести, они были исполненные истовой мольбы, ожидания и надежды. Были одинаковые в своей вдовьей неутешности и любви. Сплетены друг с другом, как ленточки в блеклом половике. И каждая ленточка была оборванной судьбой любимого человека, продолжавшего жить в женских снах и надеждах.
На нем погоны золотые,
И красный орден на груди.
Зачем, зачем я повстречала,
Его на жизненном пути…
Они были, как сестры в своем несчастии. Моля Богородицу, держащую на коленях голого Младенца, чтобы Та сотворила чудо. Вернула им с того света мужей, пожалела их одинокие, напрасно гаснущие жизни. Серебряный солдат слушал их, глядя в окно своими сияющими глазами. Где-то в небесах, за всей синевой, за легким пернатым облаком стояли их мужья плечом к плечу, в погонах и гимнастерках, слушая их песню.
Умолкли, снова звякнули рюмочками.
– А когда немец наших гнал и был уже за селом, мой-то Никита пришел домой, весь грязный, заросший, глазища мерцают. «Пришел к тебе повидаться, Василиса. Должно, перед смертью». Я говорю: «Куда тебе на смерть идти, оставайся. Как-нибудь переживем вдвоем-то». «Нет, не могу». И ушел. Больше его не видела.
– А Аннушка Девятый Дьявол своего Поликарпушку все слышит. Зовет ее. Небось скоро умрет Анна.
– Нехорошо ее, бабы, дьяволом звать. Нехорошо.
– А вот что я вам расскажу, – раздался голос тети Поли, и были в ее голосе загадочная глубина и вкрадчивость. Словно она была готова сообщить подругам заветную тайну, хранимую все эти годы в молчании. – Когда немец-то шел с Сафонтьева, ты помнишь, Катерина, прямо в поле напротив твоего дома бой был. Там наших невесть сколько полегло, и немецкий танк сгорел. Наши-то, кто уцелел, через Красавино уходили. Четверо ко мне зашли, чумазые, черные; на дворе зима, а они в летнем и без винтовок. И был там один ученый человек, вроде учитель или сын священника. Кожа да кости, обмотки мокрые, ноги стер до крови. «Что же, спрашиваю, теперь будет? Пропала Россия?» Он мне отвечает: «Россия перед Господом виновата, что церкви разрушала и царя убила, и это ей за все наказание. Но Богородица милостива. Если молиться, спасет Россию». Я их накормила, чем Бог дал, на дорогу проводила, и ушли. А наутро немец вошел. К тебе, Валентина, во двор машину поставил на гусеницах, выше избы. Все мы тогда думали, что России-матушке конец подошел, возьмут Москву. А через два месяца вдруг немец собрался и сам ушел, будто его какая сила гнала. И вот, когда наши вернулись, ко мне в дом тот самый ученый человек возвращается. Не узнать. Справный. Полушубок белый, шапка меховая, валенки катаные. Автомат на плече. «Зашел, говорит, к тебе рассказать про чудо». «Какое, спрашиваю, чудо?» «А вот слушай. Гнал нас немец аж до самой Москвы. Почти всех побил. В нашем окопе пяти человек не наберется. А против нас вся их силища. А сзади Москва беззащитная. Все, кто со мной были товарищи, винтовки побросали и пошли, кто куда. А я стал на колени, прямо в снежный окоп и стал молиться. «Богородице, Дево, спаси Россию». Молюсь и вижу, вдруг метель поднялась, фурьга, значит. Метет и метет, прямо немцам в глаза задувает. И идет в этой фурьге Пречистая Дева, вся в серебре. Как махнет рукавом, так немцев снегом засыплет. А за ней наши сибирские полки поспевают. Все молодцы, кто на лыжах, кто в валенках по снегу, все с автоматами. Немцам снегом глаза застилает, и они сибиряков-то и не видят. А нашим из-под крыла Богородицы все видать. Они бьют, немца сшибают. Так и погнали его прочь от Москвы. Вот, значит, как Богородица русских людей простила». Вот я и говорю вам, подруги, молитесь Богородице, и она наших мужей примет в рай и там их обласкает.
Они умолкли. Суздальцев слушал рассказ тети Поли и думал, что эта сияющая серебристая Дева летела перед ним по снежному полю, а он мчался за ней на своих красных лыжах. Та же чудная Дева в обличии березы приняла его под свои дивные покровы, послала ему с первой звездой волшебную птицу. И мир казался ему одухотворенным, полным волшебных тайн, которые ему предстоит разгадывать всю жизнь.
Через день он отправился к опушке, где поджидал его лесник Кондратьев, обещавший привезти из питомника саженцы, – крохотные елочки с комочками земли, в которых скрывались неокрепшие корни. Стал приближаться к опушке, отыскивая глазами великолепный шатер березы. Не находил. Приблизился. Стояла все та же телега, запряженная знакомой лошадью. В телеге зеленые, как мох, пушистые, с нежной хвоей, лежали саженцы. Кондратьев деловито накрывал их брезентом, чтобы солнце не иссушило корни. А вместо березы торчал огромный пень с неровным ступенчатым срезом. Вдоль опушки виднелись березовые дровяные поленницы, темнели пепелища от сожженных ветвей.
– Зачем? Зачем березу спилил? – с ужасом спросил Петр лесника.
– Да она мешала. Треть поляны занимала. Теперь распашем, елочки посадим. Хвойный лес полезный, деловой. Знаешь сколько из него можно изб сложить? А береза что, сорняк, сама по себе растет.
Суздальцев чувствовал, что случилось непоправимое несчастье. Вырваны из жизни и унесены несказанная красота и любовь, от которой осталось пустое невосполнимое место. И теперь всю жизнь он будет вспоминать волшебную березу с первой звездой, посулившей ему небывалое чудо, которое теперь ему никогда не достичь.
С утра в селе сажали картошку. На огородах горела и дымилась ботва. Возница сельпо Антон Агеев на своей тощей лошади вспахивал огороды, запинаясь хмельными ногами. Складывал в кошелку бутылки с водкой, которыми расплачивался с Антоном народ. Темнели вывернутые парные пласты. Было людно. Стояли на земле ящики и ведра картошки с сочными ростками. Сладко пахли голубые дымы, метался бледный огонь.
Суздальцев помогал тете Поле, которой все дни нездоровилось. Она часто укладывалась на кровать, но сегодня, превозмогая хворь, вышла на работы. Суздальцев отдавал ей ведро семенной «синеглазки» с фиолетовыми клювиками ростков. Она брала из ведра клубень, кидала в растворенную плугом землю, а Суздальцев шел следом с лопатой, забрасывал клубень бархатной рассыпчатой землей. Наслаждался, видя, как скрывается клубень в темной дышащей тьме, где его охватывают животворные силы. В нем начинается рост, движенье. В теплом влажном лоне земли происходит зачатье. И воздух слегка стекленеет, согретый невидимой жизнью.
Когда ведро опустошалось, тетя Поля перевертывала его вверх дном, садилась на него отдыхать. Суздальцев поднимал ком земли и рассматривал. Земля была живой. Казалось, из комка смотрит на него коричневый глаз. Он разламывал ком, и из него выпадал розовый дождевой червь, падал, извиваясь, в борозду, стараясь скорее пробуравить отверстие и спрятаться от палящих лучей. Иногда под ногами появлялась, начинала бежать большая, металлическая жужелица. Забиралась под земляной комок и замирала, выставив темное, с бронзовым отливом тельце. Иногда лопата рассекала личинку майского жука, и на землю изливалась липкая студенистая капля. Сквозь дым догорающей ботвы на огород слетал грач, иссиня-черный, с отливами солнца, с белым крепким клювом. Ходил в стороне, не приближаясь к людям, хватал из борозды лакомых червей.