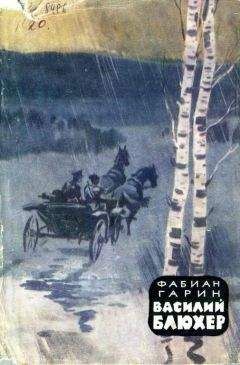— Сволочи, — вырвалось у него из груди. — Такого Муромца уложили.
Екатеринбургскому отряду грозила смертельная опасность, но спасение пришло неожиданно. На белоказаков стремительно налетел подоспевший Томин со своими сотнями. Впереди в кумачовой рубахе летел на сером жеребце сам Томин, а за ним сотня Шарапова. Старик прижался к гриве коня и, вложив два пальца в рот, свистел сатанинским свистом.
Дутовцы не выдержали и бросились наутек.
Только к ночи екатеринбургский отряд возвратился в Троицк. В штабе Блюхера шло совещание.
— Пусть бойцы отдохнут два дня, а потом возобновим наступление, — сказал главком.
— Я считаю необходимым послать специальный отряд на усмирение непокорных станиц, — предложил Цыркунов, нервно подергивая левым плечом, которое ему успели перевязать после ранения.
— Вы говорите точнее, — поправил его Блюхер, — не специальный отряд, а карательный.
— Хотя бы так.
— Это вредная затея. Поймите раз и навсегда, что не все казачество на стороне Дутова. Томина вы со счетов сбросили. И Шарапова. И казаков их сотен. Карательные отряды — метод царского правительства. Я на этот путь не стану, хоть бы сам Крыленко мне приказал. Нам нужно расслоить казачество: бедняков и малоземельных — к нам, богатеев — к Дутову. Вот тогда мы обрастем силой.
— Нам в спину стреляют, а вы теорию разводите, — возразил Цыркунов, недовольный Блюхером.
— Я эту теорию познал на заводах и в тюрьме.
Цыркунова все же поддержали другие командиры, а Томин злобно крикнул им: «Это офицерские замашки». Поднялся шум, все заговорили разом.
Блюхер не ожидал, что его слова вызовут такую бурю.
Он считал себя правым, но ему казалось, что он не смог объяснить, в чем кроется политическое недомыслие Цыркунова и других, предлагающих карательные меры против станиц, поддерживающих Дутова. Спор мог перерасти в ссору между командирами отрядов, но тут вдруг поднялся Шарапов и надсадным голосом крикнул:
— Дозвольте мне, старому казаку, слово сказать!
— Успокойтесь! — призвал Блюхер командиров. — Послушаем самих казаков.
Шум улегся, но для каждого было очевидным, что это ненадолго, ибо среди спорщиков нет человека, который мог бы силой своего авторитета примирить и подчинить их себе.
— Товарищи, которые из ахфицеров, и товарищи из рабочих, — спокойно начал Шарапов. — Я уважаю всех, кто идет с советской властью. Казака всю жизнь учили, — и между прочим, учили их ахфицеры, — что рабочий есть враг престола и за это его надо стегать нагайкой, Так то было при Николае. А теперь обратно получается. Теперь гуторят, что казак есть враг советской власти. Ну какой я враг, если я кровь проливаю за эту власть? А Василий Константинович Блюхер? Он же первейший революционер, Хучь он рабочий, а душу казака понимает. Но карать казака надо, а растолковать, что к чему.
В комнату незаметно вошел Елькин. Он слышал нескладную речь Шарапова и догадался, о чем идет разговор.
— Мое слово такое, — продолжал Шарапов, — раз главком приказывает, значит, выполняй. За неисполнение — трибунал. А ты, товарищ Цыркунов, как поступил бы на фронте за неисполнение приказания? Ты где находишься — на фронте или вечерять до дружка пришел?
Дальше Шарапов не знал, о чем говорить, и, не закончив, грузно сел на скамью. С места вскочил Цыркунов, но к столу стремительно подошел Елькин и, обведя всех взглядом, внушительно спросил:
— Что здесь происходит — митинг или совещание командиров? Сядьте, товарищ Цыркунов, вам никто слова не давал. Урок политграмоты вы получили от казака Шарапова. — Повернув голову в сторону Блюхера, он четко произнес: — Товарищ главком, продолжайте совещание. — И сел рядом с Шараповым.
— Моя ошибка в том, — сознался Блюхер, — что я своим ложным демократизмом довел совещание командиров до говорильни. Больше этого не будет. Вас, товарищ Цыркунов, предупреждаю, что если вы осмелитесь нарушить мой приказ, то будете отстранены от командования и преданы суду. Всё! На этом совещание закрываю.
До утра Блюхер не мог успокоиться. Ему стыдно было перед самим собой, что не одернул как следует Цыркунова с самого начала. «Может быть, потому, что он бывший штабс-капитан? — думал он. — А быть может, я устал?» Рассуждая с самим собой, он уснул за столом. Балодис молча следил за ним. Убедившись, что главком крепко спит, он с трудом поднял его, перенес на походную койку, а сам лег на пол.
Одна часть отрядов двинулась на запад от Троицка к Верхне-Уральску, другая на восток.
— Зачем распылять силы? — спросил Томин у Блюхера.
— Дутовцы очень подвижны: то они появляются в одном месте, то в другом. Братья Каширины мне не подчинены, но они могли бы нам оказать большую помощь. Я послал к ним человека с предложением действовать вблизи Верхне-Уральска и по возможности у Белорецка, а ты, Томин, двинь своих конников в степь на станицы Полтавка, Аннинская и Парижская. Туда же я посылаю екатеринбургский отряд.
— Значит, в степь, — повторил Томин с тоскливым, как показалось Блюхеру, видом.
Томина не пугала степь, которую он знал с детства, ему хотелось быть поближе к родной станице. Ведь там осталась Груня, и ее могла постигнуть печальная участь. Впрочем, встреча с большими силами противника тоже не сулила радостей.
Весна в тот год хотя и наступила рано, но в степи среди зеленых побегов еще лежала прошлогодняя трава, и потому казалось, степь перенесла тяжелую болезнь.
Томин ехал впереди отряда и зорко всматривался в даль. К нему подъехал Шарапов, подравнивая коня.
— Может, мне мою сотню поближе к сырту подать? — И показал рукой.
Томин молча кивнул головой.
— Пошто печалишься? — спросил Шарапов.
— На степь смотрю, вроде она после белой горячки.
— Так завсегда, пока не раскисли под сыртами снежные плеши да солнце не припалило. Посля заиграет радугой.
Шарапов отъехал, и вскоре до Томина донеслась его команда: «Сотня, полоборота вправо, марш-а-марш!» За командой — топот копыт. Вспомнил Томин, как в детстве ехал он степью с дедом в плетеной кошевке. Весенний день угасал, косые лучи солнца играли в буйном цветении бобовника и чилаги. Огненно-желтые адонисы и фиолетовые касатики манили в лазоревую даль, где солнце садилось за сырты. И вдруг конь, прядая ушами, пустился во всю прыть. Николай не сразу догадался и повернул лицо к деду, а тот, откинувшись на спинку кошевки, выпустил из рук вожжи. Смерть неожиданно свалила старого казака. Вспомнил сейчас Томин, как он еле живой добрался до Кочердыка, белое лицо отца с искусанными губами, голосистый плач сестренки Груни… И вот сейчас он вновь в степи, может быть где-то вблизи той дороги, по которой ехал с дедом, но думал он совсем о другом: сумеет ли отряд устоять в открытом бою и победить. Иначе смерть. Интересно, о чем сейчас думает Шарапов? Ему за шестьдесят перевалило, и, наверное, мечтает о такой жизни, в которой бы ни один станичный атаман или урядник не цыкнул на него. Ради такой жизни стоит повоевать. Не мало крови впитает в себя степная земля, не мало костей, омытых дождями, будут валяться в ковыле, зато спустя пятьдесят или сто лет героям поставят памятник и на нем высекут имена. Только вместо креста будет звездочка.
Отряды идут, а степной дали все нет конца. От Бузулукского бора в Заволжье до истоков Тобола тянутся оренбургские степи с разбросанными горбатыми сыртами. По крутым откосам пламенеют малиновые глины и розовые мергеля, а между сыртами извиваются маловодные реки. Необозримой лавой текут на восток, и только перед Уральским хребтом, остановившись у исполинских гор, укутавших себя густыми лесами, они огибают их с юга. Зато, выйдя снова на простор, разливаются по всей Западной Сибири.
Оренбургская степь! Едешь по ней дни и ночи, и нет ей конца. Весною буйное цветение кружит и дурманит голову. Тюльпаны и тонконог, ковыль и дикая вишня расписывают замысловатый узор ковра. После обильных снегов земля разбухает от талой воды, но пригреет горячее солнце, выпьет жадно всю влагу, и начнет земля сохнуть, пока вся не потрескается, как старая кожа.
Шарапов с сотней давно исчезли за обрубленным шиханом сырта. И вдруг издалека донеслись гулкие выстрелы. Томин тотчас преобразился. Приказав екатеринбургскому отряду рассыпаться подковой, он поманил к себе Назара Филькина.
— У тебя добрый конь. Гони обратно к Блюхеру с моей запиской. Но только наметом.
— Ясно! — ответил Филькин и, спустив на подбородок ремень фуражки, рванул коня с места в карьер.
Томин же, дав шпоры своему серому жеребцу, увлек за собой конников. Обогнув сырт с другой стороны, он столкнулся с Шараповым.
— Нащупал? — спросил он нетерпеливо.
— Утекли, — с сожалением ответил Шарапов, заломив от злости фуражку на макушку. — Одного из седла вышиб, зад ему продрал, а живой. Крестится, что Дутов в станице Бриены.